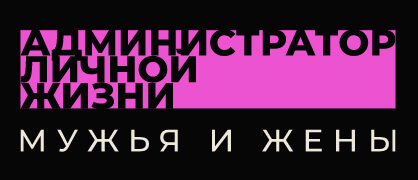Поэт кузьмин биография и личная жизнь
«ÄÓÕ ÌÅËÎ×ÅÉ, ÏÐÅËÅÑÒÍÛÕ È ÂÎÇÄÓØÍÛÕ»
Ì. À. Êóçìèí îäèí èç ñàìûõ ìàëîèññëåäîâàííûõ è çàãàäî÷íûõ ïîýòîâ ýïîõè ñåðåáðÿíîãî âåêà, êîòîðàÿ áûëà âîâñå íå áåäíà çíà÷èòåëüíûìè ëè÷íîñòÿìè.
Äàæå ñ åãî ãîäîì ðîæäåíèÿ äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè ñóùåñòâîâàëà íåñóñâåòíàÿ ïóòàíèöà. Âî ìíîãèõ âïîëíå ñîëèäíûõ èñòî÷íèêàõ óêàçûâàëñÿ 1875 ãîä, â ñòàòüå Ì. Òîëìà÷åâà â ãàçåòå «Êíèæíîå îáîçðåíèå» áûë íàçâàí 1873 ãîä, à â êíèãå Â. Í. Îðëîâà «Ïåðåïóòüÿ» 1872 ãîä. Èçâåñòíûé èñêóññòâîâåä, àâòîð êíèãè î «Ìèðå èñêóññòâ», Âñåâîëîä Íèêîëàåâè÷ Ïåòðîâ, êîòîðîãî ïèøóùèé ýòè ñòðîêè èìåë ÷åñòü çíàòü ëè÷íî, ãîâîðèë, ÷òî Êóçìèí áîÿëñÿ ñòàðîñòè è ïîñòîÿííî óìåíüøàë ñâîé âîçðàñò. À Â. Í. Ïåòðîâ âõîäèë â áëèæàéøåå îêðóæåíèå Êóçìèíà â ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè ïîýòà.
Ñåé÷àñ óñòàíîâëåíà ïîäëèííàÿ äàòà åãî ðîæäåíèÿ: ñîãëàñíî ñâèäåòåëüñòâó, âûäàííîìó ÿðîñëàâñêîé Õðèñòîðîæäåñòâåíñêîé öåðêîâüþ, ïîýò ðîäèëñÿ 6 îêòÿáðÿ 1872 ãîäà â ßðîñëàâëå. Îí ïðîèñõîäèë èç ñòàðèííîãî ÿðîñëàâñêîãî äâîðÿíñòâà. Î÷åíü îáèæàëñÿ, åñëè åãî ôàìèëèþ ïèñàëè ñ ìÿãêèì çíàêîì. «Ýòî íå ìîÿ ôàìèëèÿ», ãîâîðèë îí, ïî ñâèäåòåëüñòâó Â. Í. Ïåòðîâà.
Íå âïîëíå ÿñíî è òî, ê êàêîìó ïîýòè÷åñêîìó òå÷åíèþ åãî ñëåäóåò îòíåñòè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îí áûë áëèçîê ê ñèìâîëèñòàì, íî ðåøèòåëüíî ÷óæäàëñÿ, îñîáåííî â ìîëîäûå ãîäû, çûáêîñòè è òóìàííîñòè ñèìâîëèçìà.
Áëîê â äíåâíèêå ïèñàë: «Êóçìèí íà íàøèõ ñáîðèùàõ íå áûâàë».
Ñòàòüÿ Êóçìèíà «Î ïðåêðàñíîé ÿñíîñòè», ïîÿâèâøàÿñÿ â «Àïîëëîíå» â 1910 ãîäó, êàê áóäòî äàåò îñíîâàíèå îòíåñòè åãî ê àêìåèñòàì. Ýòó ñòàòüþ ðàññìàòðèâàëè â ñâîå âðåìÿ êàê ÷óòü ëè íå îäèí èç ìàíèôåñòîâ àêìåèçìà. «Åñòü õóäîæíèêè, íåñóùèå ëþäÿì õàîñ, íåäîóìåâàþùèé óæàñ è ðàñùåïëåííîñòü ñâîåãî äóõà, è åñòü äðóãèå, äàþùèå ìèðó ñâîþ ñòðîéíîñòü. Íåò îñîáåííîé íàäîáíîñòè ãîâîðèòü, íàñêîëüêî âòîðûå, ïðè ðàâåíñòâå òàëàíòà, âûøå è öåëèòåëüíåå ïåðâûõ».
 ýòîé ñòàòüå ïîýò ïðèçûâàë ê ÿñíîñòè è ëîãè÷íîñòè õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé, äàæå ãîâîðèë î «êëàðèçìå» (îò «claris» ÿñíûé), êîòîðûé ïîðîé èäåíòèôèöèðîâàëè ñ àêìåèçìîì. Íî âñå áûëî ìíîãî ñëîæíåå. Íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî Êóçìèí íå âõîäèë îðãàíèçàöèîííî íè â ãðóïïó Í. Ãóìèëåâà, íè â «Öåõ ïîýòîâ» (õîòÿ ëè÷íî ñ Ãóìèëåâûì áûë äðóæåí), à åùå è ïîòîìó, ÷òî ó íåãî ìîæíî íàéòè íåìàëî îòðèöàòåëüíûõ ôðàç îá àêìåèçìå. Íàïðèìåð: «Àêìåèçì òàê òóï è íåëåï, ÷òî ýòîò ìèðàæ ñêîðî ïðîéäåò» (×åøóÿ â íåâîäå // Ñòðåëåö. Ñá. 3. 1922). «Òàêàÿ æå íå îðãàíè÷åñêàÿ, à âûäóìàííàÿ è íàñèëüñòâåííàÿ øêîëà, êàê àêìåèçì, ñ ñàìîãî íà÷àëà ëåçëà ïî øâàì, îáúåäèíÿÿ íåñîâìåñòèìûõ Ãóìèëåâà, Àõìàòîâó, Ìàíäåëüøòàìà, Çåíêåâè÷à» (Ïàðíàññêèå çàðîñëè // Çàâòðà: Ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêèé ñáîðíèê. Áåðëèí, 1923).
Òàêàÿ îöåíêà ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ èçëèøíå ïðèñòðàñòíîé. Íî â íåé ïîýò áûë áëèçîê ê Áëîêó, êîòîðûé íè Ãóìèëåâà, íè åãî ñîðàòíèêîâ íå ïåðåíîñèë âîîáùå, äåëàÿ èñêëþ÷åíèå ðàçâå ÷òî äëÿ Ìàíäåëüøòàìà. À Êóçìèíó Áëîê ïèñàë 13 ìàÿ 1908 ãîäà: «Ãîñïîäè, êàêîé Âû ïîýò è êàêàÿ ýòî êíèãà! ß âî âñå âëþáëåí, êàæäóþ ñòðîêó è êàæäóþ áóêâó ïîíèìàþ» (î êíèãå «Ñåòè»). Áëîêó áûëè áëèçêè è ìûñëè, âûñêàçàííûå Êóçìèíûì â ñòàòüå «Î ïðåêðàñíîé ÿñíîñòè» è öèòèðîâàííûå âûøå. Áëîê áîÿëñÿ õàîñà â ñåáå è âñåìè ñèëàìè ñòðåìèëñÿ ê ãàðìîíèè.
Î ñåáå Êóçìèí ïðåäïî÷èòàë íå ãîâîðèòü. Åãî æèçíü ìû âîññòàíàâëèâàåì ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì. Ïî-âèäèìîìó, îíà áûëà äîñòàòî÷íî áåñïîêîéíîé.  ìîëîäîñòè ïîýò ñáåæàë èç äîìà, ïîêóøàëñÿ íà ñàìîóáèéñòâî, ñòðàíñòâîâàë ñî ñòàðîîáðÿäöàìè ïî ñåâåðó Ðîññèè, ñëóæèë «ìàëûì» â ìó÷íîì ëàáàçå, áûë êàêîå-òî âðåìÿ ïîñëóøíèêîì â çàõóäàëîì èòàëüÿíñêîì ìîíàñòûðå. Òî îí áûë ÷ðåçâû÷àéíî ðåëèãèîçåí, òî ýòî óâëå÷åíèå ñìåíÿëîñü áåçáîæèåì, òî íîñèë ðóññêóþ ïîääåâêó è îòïóñêàë áîðîäó, òî ùåãîëÿë èçûñêàííûìè êîñòþìàìè åâðîïåéñêîãî dandy. Ïîáûâàë â Ãåðìàíèè, Èòàëèè, Åãèïòå, Òóðöèè, Ãðåöèè.
Ñêëîííîñòü ê ïóòåøåñòâèÿì è «òåàòð äëÿ ñåáÿ» áûëè â ðàâíîé ñòåïåíè ñâîéñòâåííû áîëüøèíñòâó ïîýòîâ ñåðåáðÿíîãî âåêà.
Ìàíäåëüøòàì ïèñàë î Êóçìèíå î÷åíü åìêî è ñèíêðåòè÷íî: «Êóçìèí ïðèøåë îò âîëæñêèõ áåðåãîâ ñ ðàñêîëüíè÷üèìè ïåñíÿìè, èòàëüÿíñêîé êîìåäèåé ðîäíîãî äîìàøíåãî Ðèìà è âñåé ñòàðîé åâðîïåéñêîé êóëüòóðîé, ïîñêîëüêó îíà ñòàëà ìóçûêîé îò «Êîíöåðòà» â Palazzo Pitti Äæîðäæîíå äî ïîñëåäíèõ ïîýì Äåáþññè» (Ïèñüìà î ðóññêîé ïîýçèè /  êí.: Ñëîâî è êóëüòóðà. Ì.: Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, 1977). Àññîöèàöèè ñ ìóçûêîé ó Ìàíäåëüøòàìà íå ñëó÷àéíû. Êóçìèí áûë íå òîëüêî ïîýòîì, íî è ìóçûêàíòîì, êîìïîçèòîðîì, ïðè÷åì íå äèëåòàíòîì, à ïðîôåññèîíàëîì, ó÷åíèêîì À. Ê. Ëÿäîâà è Í. À. Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà.
Ì. À. Êóçìèíà ìîæíî íàçâàòü ïåðâûì áàðäîì â XX âåêå. Èìåííî åãî, à íå Á. Îêóäæàâó è äàæå íå À. Âåðòèíñêîãî, õîòÿ àóäèòîðèÿ ó íàçâàííûõ ïåâöîâ áûëà çíà÷èòåëüíî áîëåå ìíîãî÷èñëåííîé. Êóçìèí èñïîëíÿë ñâîè ïåñíè â ðàçíûõ ãîñòåïðèèìíûõ äîìàõ. Îí ãîâîðèë: «Ó ìåíÿ íå ìóçûêà, à ìóçû÷êà, íî â íåé åñòü ñâîé ÿä». Çàïèñåé, ê ñîæàëåíèþ, íå ñîõðàíèëîñü. Ðîìàíñ Êóçìèíà «Äèòÿ, íå òÿíèñü âåñíîþ çà ðîçîé» åñòü â çàïèñè Â. À. Ñàáèíèíà, íî àâòîðñêîãî èñïîëíåíèÿ íåò.
Íå ìîãó ïîðó÷èòüñÿ çà ñòîïðîöåíòíóþ äîñòîâåðíîñòü âîñïîìèíàíèé Èðèíû Îäîåâöåâîé («Íà áåðåãàõ Íåâû»), â íèõ åñòü ýëåìåíò âûìûñëà, õîòÿ è íå ñòîëü çíà÷èòåëüíûé, êàê ó åå ìóæà Ã. Â. Èâàíîâà. Íî îíà îïèñûâàåò âõîæäåíèå Êóçìèíà â ïîýçèþ ïðèìåðíî òàê: «Ñòèõè îí ñòàë ïèñàòü, ïîòîìó ÷òî åãî íå óñòðàèâàëè òåêñòû äëÿ ìóçûêè.
Åñëè ÷óæèå ñòèõè Âàì íå ïîäõîäÿò ïèøèòå ñàìè, ñêàçàë åìó áóäòî áû Áðþñîâ è «ïîêàçàë, êàê ýòî äåëàåòñÿ» (Ýòîìó ìîæíî íàó÷èòü? Â.Ð.).
Êóçìèí ñðàçó îáíàðóæèë îãðîìíûå ñïîñîáíîñòè, ïðîäîëæàåò È. Îäîåâöåâà, è ìàõíóë ðóêîé íà ìóçûêó, õîòü è íå ñîâñåì.
Ðàññêàçûâàþò, ÷òî îí òàê îáúÿñíÿë ýòîò ïåðåõîä: è ëåã÷å, è ïðîùå. Ñòèõè òàê ñ íåáà ãîòîâûìè è ïàäàþò, êàê ïåðåïåëêè â ðîò».
Ñòèõè Êóçìèíà è â ñàìîì äåëå ëåãêè è åñòåñòâåííû. À ñêîëüêî ïîýò íàä íèìè ðàáîòàë êòî ýòî ìîæåò çíàòü?
ß òèõî îò òåáÿ èäó,
À òû îñòàëñÿ íà áàëêîíå,
«Êîëü ñëàâåí íàø Ãîñïîäü â Ñèîíå»
Ïîþò â Òàâðè÷åñêîì ñàäó.
ß âèæó áëåäíóþ çâåçäó
Íà òèõîì, òåïëîì íåáîñêëîíå,
È ëó÷øèõ ñëîâ ÿ íå íàéäó,
Êîãäà ÿ îò òåáÿ èäó:
«Êîëü ñëàâåí íàø Ãîñïîäü â Ñèîíå».
Ñáîðíèê «Ñåòè» (1908), êîòîðûé ÿ óïîìèíàë â ñâÿçè ñ îòçûâîì Áëîêà, áûë ïåðâûì ñáîðíèêîì ïîýòà. Äëÿ íåãî õàðàêòåðíî íåïîñðåäñòâåííîå âîñõèùåíèå ïðåëåñòüþ æèçíè, ñìàêîâàíèå åå ìåëî÷åé, åå ïîäðîáíîñòåé.
Ñ ñàìîãî íà÷àëà â ñòèõàõ çâó÷èò íåïîâòîðèìûé ãîëîñ ïîýòà, åãî î÷àðîâàòåëüíàÿ íàèâíîñòü, êîòîðàÿ, ìîæåò áûòü, è åñòü ñàìà ïîýçèÿ.
Ãäå ñëîã íàéäó, ÷òîá îïèñàòü ïðîãóëêó,
Øàáëè âî ëüäó, ïîäæàðåííóþ áóëêó
È âèøåí ñïåëûõ ñëàäîñòíûé àãàò?
Äàëåê çàêàò, è â ìèðå ñëûøåí ãóëêî
Ïëåñê òåë, ÷åé æàð ïðîõëàäå âëàãè ðàä.
Ýòî ëåãêèå ñòèõè, õîòÿ â ïîñëåäíåé ñòðîêå («Ïëåñê òåë, ÷åé æàð») äâà ñïîíäåÿ ïîäðÿä, ÷òî ïîçâîëÿë ñåáå ðàçâå ÷òî Âÿ÷. Èâàíîâ. Êñòàòè, Êóçìèí æèë íà «áàøíå» ó Â. È. Èâàíîâà, îòñþäà è Òàâðè÷åñêèé ñàä â åãî ñòèõàõ. Â. Èâàíîâ âåñüìà öåíèë ðàçíîñòîðîííþþ îáðàçîâàííîñòü Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à. Ñáîðíèê «Êóðàíòû ëþáâè» (1910) âûøåë â áîëüøîì ôîðìàòå, ñ íîòàìè. Ñåé÷àñ íàìå÷åíî ê âûïóñêó ðåïðèíòíîå èçäàíèå.
Õîòÿ Êóçìèí íå ïðèíÿë àêìåèçìà, ýòî íå ìåøàëî Ãóìèëåâó îòçûâàòüñÿ î åãî ñáîðíèêàõ î÷åíü òåïëî. Òàê, îí ïèñàë: «Ñêàæó åùå î «Êóðàíòàõ ëþáâè» Êóçìèíà. Îäíîâðåìåííî ñ íèìè àâòîðîì ïèñàëàñü ê íèì è ìóçûêà, è ýòî íàëîæèëî íà íèõ îòïå÷àòîê êàêîãî-òî îñîáîãî òîðæåñòâà è íàðÿäíîñòè, äîñòóïíîãî òîëüêî ÷èñòûì çâóêàì. Ñòèõ ëüåòñÿ, êàê ñòðóÿ ÷èñòîãî, äóøèñòîãî è ñëàäêîãî ìåäà, âåðèøü, ÷òî òîëüêî îí åñòåñòâåííàÿ ôîðìà ÷åëîâå÷åñêîé ðå÷è, è ðàçãîâîð èëè ïðîçàè÷åñêèé îòðûâîê ïîñëå êàæóòñÿ ÷åì-òî ñòðàøíûì, êàê øåïîò â òþò÷åâñêóþ íî÷ü, êàê íå÷èñòîå çàêëèíàíüå. Ýòà ïîýìà ñîñòàâëåíà èç ðÿäà ëèðè÷åñêèõ îòðûâêîâ, ãèìíîâ ëþáâè è î ëþáâè. Åå ñëîâà ìîæíî ïîâòîðÿòü êàæäûé äåíü, êàê ïîâòîðÿåøü ìîëèòâó, âäûõàåøü çàïàõ äóõîâ, ñìîòðèøü íà öâåòû».
Ëþáîâü ðàññòàâëÿåò ñåòè
Èç êðåïêèõ øåëêîâ,
Ëþáîâíèêè, êàê äåòè,
Èùóò îêîâ.
Â÷åðà òû ëþáâè íå çíàåøü,
Ñåãîäíÿ âåñü â îãíå,
Â÷åðà ìåíÿ îòâåðãàåøü,
Ñåãîäíÿ êëÿíåøüñÿ ìíå.
Çàâòðà ïîëþáèò ëþáèâøèé
È íå ëþáèâøèé â÷åðà.
Ïðèäåò ê òåáå íå áûâøèé
Äðóãèå âå÷åðà.
Ìû, êàê ìàëûå äåòè,
Èùåì îêîâ
È ñëåïî ïàäàåì â ñåòè
Èç êðåïêèõ øåëêîâ.
Êíèãà «Îñåííèå îçåðà» (1912) áûëà âñòðå÷åíà Ãóìèëåâûì ñòîëü æå âîñòîðæåííî. Íî îí îòìå÷àë íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â òîíàëüíîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåæíèìè ñáîðíèêàìè. Íå îòêàæó ñåáå â óäîâîëüñòâèè ñíîâà ïðîöèòèðîâàòü ãóìèëåâñêèå «Ïèñüìà î ðóññêîé ïîýçèè»: «…âìåñòî ïðåæíåé íåæíîé øóòëèâîñòè è èíòèìíîñòè, ñòîëü õàðàêòåðíûõ äëÿ âëþáëåííîñòè, ìû âñòðå÷àåì ïûëêîå êðàñíîðå÷èå è íåñêîëüêî òîðæåñòâåííóþ ñåðüåçíîñòü ÷óâñòâåííîãî âëå÷åíèÿ. Êîñòåð ðàçãîðåëñÿ è èç ïðèâåòíîãî ñòàë âåëè÷åñòâåííûì».
Áëåäíû âñå èìåíà è ñòàðû âñå íàçâàíüÿ,
Ëþáîâü æå êàæäûé ðàç íîâà.
Ìîãó ëè ïåðåäàòü òâîè î÷àðîâàíüÿ,
Êîãäà òàê íåìîùíû ñëîâà?
Çà÷åì ÿ íå ðîæäåí, âîëíóåìûé, âëþáëåííûé,
Êîãäà ëþáâè æèâîé ÿçûê
Ìëàäåí÷åñêè ñèÿë êðàñîé ïåðâîðîæäåííîé
È ñëóõ ê íåìó íå òàê ïðèâûê?
Êóçìèíó áûëî â âûñøåé ñòåïåíè ñâîéñòâåííî ïðîíèêíîâåíèå â ÷óæèå ýïîõè, â äóõ ðàçíûõ ñòðàí. Ýòî ñèëüíî ñêàçàëîñü â åãî ïðîçå, à èç ñòèõîâ áîëüøå âñåãî â åãî óäèâèòåëüíûõ «Àëåêñàíäðèéñêèõ ïåñíÿõ». Îíè èíòåðåñíû ñâîåîáðàçíîé, ñâîáîäíîé ìåòðèêîé, íàïîìèíàþùåé àíòè÷íóþ:
Âå÷åðíèé ñóìðàê íàä òåïëûì ìîðåì,
Îãíè ìàÿêîâ íà ïîòåìíåâøåì íåáå,
Çàïàõ âåðáåíû ïðè êîíöå ïèðà,
Ñâåæåå óòðî ïîñëå äîëãèõ áäåíèé,
Êðèêè è ñìåõ êóïàþùèõñÿ æåíùèí…
Êàê ìû ïîìíèì, â Åãèïòå Êóçìèí áûâàë è Àëåêñàíäðèþ âèäåë âîî÷èþ. Ïî óòâåðæäåíèþ Ðþðèêà Èâíåâà (à ýòîò ïîýò ðàáîòàë ñ áîëüøåâèêàìè, áûë ñåêðåòàðåì À. Â. Ëóíà÷àðñêîãî), ê îêòÿáðüñêîìó ïåðåâîðîòó Êóçìèí îòíåññÿ âïîëíå ëîÿëüíî.
Ðþðèê Èâíåâ ïèøåò: «Î ïîëèòèêå ìû ñ íèì íèêîãäà íå ãîâîðèëè. Íî îí íå íûë, ìíîãî ðàáîòàë, íå æàëîâàëñÿ, ÷òî çàáûò, ÷òî íîâûå èìåíà îòòåñíèëè åãî â ïðîøëîå. Êóçìèí, êàæåòñÿ, áûë â ðîâíîì íàñòðîåíèè è ìûñëèë îáúåêòèâíî. Â ñàìûå áóðíûå äíè Îêòÿáðÿ îí íå óêîðÿë ìåíÿ, ïîäîáíî íåêîòîðûì, çà ñáëèæåíèå ñ áîëüøåâèêàìè».
 ñòèõàõ ïîýòà ïîÿâëÿþòñÿ ñîâåðøåííî íåîæèäàííî èíòîíàöèè… Ìàÿêîâñêîãî:
Ïîìíèòå ýòî íà÷àëî ñîâåòñêèõ äåïåø,
Ãîëîâîêðóæèòåëüíîå «Âñåì, âñåì, âñåì».
Ñëîâíî ãîëîäíîìó ãîâîðÿò: «åøü»,
À îí, óëûáàÿñü, îòâå÷àåò: «åì».
Ïî ñëîâàì ïðîøåë êðåïêèé íàæäàê.
(Îáíîâèòåëè ÿçûêà, íàòå-êà!)
È ñëîâî «ãðàæäàíèí» çâó÷èò òàê,
Ñëîâíî åãî âïåðâûå âûäóìàëà ãðàììàòèêà.
Ñâîáîäíûé ñòèõ áûë è â «Àëåêñàíäðèéñêèõ ïåñíÿõ», íî çäåñü ïîÿâëÿþòñÿ ÷åðòû ìîíóìåíòàëüíîñòè. Ïðàâäà, íåíàäîëãî. Èçâåñòíû áûëè è ñîâñåì äðóãèå åãî ñòèõè, â ñáîðíèêè íå âõîäèâøèå, à íåäàâíî îïóáëèêîâàííûå Ñòàíèñëàâîì Êóíÿåâûì â åãî æóðíàëå «Íàø ñîâðåìåííèê».
Íåíàðå÷åííîé áûòü ñòðàíà íå ìîæåò,
Îäíèìè ëèòåðàìè íå ñïàñòèñü,
Ïðîæèòü íåëüçÿ áåç âåðû è íàäåæäû
È áåç öàðÿ, íèñïîñëàííîãî Áîãîì.
ß æåíùèíà, æàëåþ è çëîäååâ,
(ýòî ãîâîðèò ó Êóçìèíà Áîãîðîäèöà. Â. Ð.)
Íî ýòèõ çà ëþäåé ÿ íå ñ÷èòàþ.
Âåäü ñàìè îò ñåáÿ îíè îòâåðãëèñü
È îò äóøè áåññìåðòíîé îòêàçàëèñü.
 20-å ãîäû âûõîäÿò åãî êíèãè «Âîæàòûé», «Íåçäåøíèå âå÷åðà».  íèõ îùóùàåòñÿ ñòðåìëåíèå ê ïóøêèíñêîìó íà÷àëó, ïîèñêè îáíîâëåíèÿ ôîðìû, èíòåðåñ ê ìèôîëîãèè, íàòóðôèëîñîôèè. Íå ñëó÷àéíî â ýòî âðåìÿ íàïèñàíî èì íåñêîëüêî ñòèõîòâîðåíèé î Ïóøêèíå.
Ðîìàíòèê, êëàññèê, ñòàðûé, íîâûé?
Îí Ïóøêèí, è áåññìåðòåí îí!
Ê ÷åìó æå øêîëüíûå îêîâû
Òîìó, êòî ñàì ñåáå çàêîí?
Èç ñòðàí, îòêóäà íåò âîçâðàòà,
×åðåç ãîäà îí áðîñèë ìîñò,
È åñëè â íåì ïðèçíàåì áðàòà,
Îí íå îáèäèòñÿ: îí ïðîñò
Ìàðèíà Öâåòàåâà â ñâîåì î÷åðêå «Íåçäåøíèé âå÷åð» îïèñûâàåò âñòðå÷ó ñ Êóçìèíûì â äîìå çíàêîìûõ. Îíà îòçûâàåòñÿ î íåì òàê: «Ëó÷øå íåëüçÿ; ïðîùå íåëüçÿ».
Î ïðîñòîòå è åñòåñòâåííîñòè Êóçìèíà âñïîìèíàåò è óæå óïîìÿíóòûé ìíîé Â. Í. Ïåòðîâ. Åãî ìàòü, ÷îïîðíàÿ ïåòåðáóðãñêàÿ äàìà, ãîâîðèëà î ïîýòå: «Âîò êòî áåçóêîðèçíåííî ñâåòñêèé ÷åëîâåê. Âîò ó êîãî òû äîëæåí ó÷èòüñÿ âåñòè ñåáÿ â îáùåñòâå». Òàêèì ñâåòñêèì ÷åëîâåêîì Êóçìèí áûë è â 20-å è â 30-å ãîäû.
Êíèãè «Âîæàòûé» è «Íåçäåøíèå âå÷åðà» äîëãîå âðåìÿ áûëè ìàëî êîìó èçâåñòíû. Îäíî ñòèõîòâîðåíèå èç «Âîæàòîãî» ëþáèëà Ìàðèíà Öâåòàåâà:
Âû òàê áëèçêè ìíå, òàê ðîäíû,
×òî êàæåòåñü óæ íåëþáèìû.
Íàâåðíî, òàê æå õîëîäíû
 ðàþ äðóã ê äðóãó ñåðàôèìû.
È âîëüíî ÿ âçäûõàþ âíîâü,
Ïî-äåòñêè âèæó ñîâåðøåíñòâî:
Áûòü ìîæåò, ýòî íå ëþáîâü,
Íî òàê ïîõîæå íà áëàæåíñòâî!
Â. Í. Ïåòðîâ ÷àñòî áûâàë â êâàðòèðå Êóçìèíà íà Çíàìåíñêîé (Ðûëååâà). Òàì ïîýò æèë âìåñòå ñ ñåìüåé ñâîåãî äðóãà, õóäîæíèêà è ïðîçàèêà Þ. È. Þðêóíà. Òàì ÷àñòî óñòðàèâàëèñü ÷àåïèòèÿ, â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëà ãðóïïèðîâàâøàÿñÿ îêîëî Êóçìèíà òàëàíòëèâàÿ ìîëîäåæü. Óïðàâäîì, áûâøèé ïðàïîðùèê, ãîâîðèë, ÷òî êîãäà-íèáóäü áóäåò ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà: «Çäåñü æèëè Êóçìèí è Þðêóí, è óïðàâäîì èõ íå îáèæàë». È áóäåò ìóçåé. Óâû, íåò íè ìóçåÿ, íè ìåìîðèàëüíîé äîñêè. È àðõèâ ïîñëå àðåñòà Þ. È. Þðêóíà èñ÷åç áåññëåäíî.
Êâàðòèðà íà Çíàìåíñêîé çíàâàëà ðàçíûå âðåìåíà. Ðàçðóõó è ãîëîä 20-õ ãîäîâ ïîýò ïåðåíîñèë ñòîéêî. Îäèí ïåòåðáóðãñêèé ëèòåðàòîð, ÷åé äíåâíèê áåç óêàçàíèÿ èìåíè àâòîðà áûë îïóáëèêîâàí â Ïàðèæå Ã. Â. Àäàìîâè÷åì, ðàññêàçûâàë, ÷òî îí çèìîé 1924-1925 ãîäà âñòðåòèë íà óëèöå Êóçìèíà â ëåòíåì ïàëüòèøêå, à ìîðîç áûë ãðàäóñîâ 20. Ìåæäó íèìè ïðîèçîøåë òàêîé äèàëîã:
«ß ñòàë æàëîâàòüñÿ íà æèçíü. Êóçìèí ñêàçàë:
È íå ñîâåñòíî âàì?
×òî ñîâåñòíî?
Äà âîò òàê, ïðè÷èòûâàòü. Ñàìîå ëó÷øåå íàøå âðåìÿ. Óæ âû ìíå ïîâåðüòå. Ïîñòàðøå ñòàíåòå, ïîéìåòå, ãîëóá÷èê. ×åì áîëüøå òåðÿåøü, òåì è ëó÷øå».
Òîãäà æå, â 20-å ãîäû, Êóçìèí íàïèñàë ñòèõîòâîðåíèå, îòðàæàþùåå åãî íåëåãêèé áûò.
Äåêàáðü ìîðîçèò â íåáå ðîçîâîì,
Íåòîïëåíûé ÷åðíååò äîì,
È ìû, êàê Ìåíøèêîâ â Áåðåçîâå,
×èòàåì Áèáëèþ è æäåì.
È æäåì ÷åãî? Ñàìèì èçâåñòíî ëè?
Êàêîé ñïàñèòåëüíîé ðóêè?
Óæ âñïóõíóâøèå ïàëüöû òðåñíóëè
È ðàçâàëèëèñü áàøìàêè.
Ïå÷àòàëè åãî ìàëî. Íî ê íåìó óâàæèòåëüíî îòíîñèëèñü ïîýòû àâàíãàðäà: Ê. Âàãèíîâ, Ä. Õàðìñ, À. Ââåäåíñêèé. Áûâàë ó íåãî è Ý. Áàãðèöêèé. Ïîðàæàëà ñîâðåìåííèêîâ åãî ðàçíîñòîðîííÿÿ îáðàçîâàííîñòü. Íî ñàì îí ãîâîðèë: «ß õîðîøî çíàþ òîëüêî ìóçûêó äî Ìîöàðòà, æèâîïèñü Êâàòðî÷åíòî è ôèëîñîôèþ Ïëîòèíà è ãíîñòèêîâ. À âîò àíòè÷íîñòü À. È. Ïèîòðîâñêèé çíàåò ëó÷øå ìåíÿ».
Êàêèì-òî ÷óäîì óäàëîñü èçäàòü â 1929 ãîäó åãî ïîñëåäíþþ êíèãó «Ôîðåëü ðàçáèâàåò ëåä». Î÷åíü óæ îíà áûëà íå â òîí âñåìó, ÷òî òîãäà ïå÷àòàëîñü. Îò «ïðåêðàñíîé ÿñíîñòè», äåêëàðèðîâàííîé èì â ìîëîäîñòè, íå îñòàëîñü ïî÷òè íè÷åãî. Ñêîðåå äëÿ ýòîé êíèãè õàðàêòåðåí ãåðìåòèçì, ýòàêàÿ çàìêíóòîñòü õóäîæåñòâåííîé ñèñòåìû ñàìîé íà ñåáÿ. Êíèãà ïîëíà òóìàííûõ èíîñêàçàíèé, ñþæåòû ñòðîÿòñÿ íà ñòàëêèâàþùèõñÿ äàëåêîâàòûõ àññîöèàöèÿõ. Èíîãäà äëÿ ïîíèìàíèÿ íóæíî òî÷íî çíàòü, î ÷åì èäåò ðå÷ü, èíîãäà çà ñëîæíûìè îáðàçàìè ñòîèò ñèìâîëèêà ôèëîñîôèè ãíîñòèêîâ. Âïðî÷åì, èçÿùåñòâî è ëåãêîñòü, ñâîéñòâåííûå ñòèõàì ìîëîäîãî Êóçìèíà, â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè ïðèñóùè è ýòîé êíèãå. Âîò, íàïðèìåð, âòîðîå âñòóïëåíèå â öèêë, îäíîèìåííûé ñ êíèãîé.
Íåïðîøåíûå ãîñòè
Ñîøëèñü êî ìíå íà ÷àé,
Òóò, õî÷åøü èëü íå õî÷åøü,
Ñ óëûáêîþ âñòðå÷àé.
Ãëàçà ó íèõ ïîìåðêëè,
È ïàëüöû ñëîâíî âîñê,
È íèùåíñêè èãðàåò
Ïî øâàì óáîãèé ëîñê.
Çàáûòûå íàçâàíüÿ,
Íåáûâøèå ñëîâà
.
Îò òåìíûõ ðàçãîâîðîâ
Òóïååò ãîëîâà…
Õóäîæíèê óòîíóâøèé
Òîïî÷åò êàáëó÷êîì,
Çà íèì ãóñàðñêèé ìàëü÷èê
Ñ ïðîñòðåëåííûì âèñêîì…
Íå âñå ñðàçó ïîíèìàþò, ÷òî ýòè «íåïðîøåíûå ãîñòè» ìåðòâåöû. Ïîýòîìó è «ãëàçà ó íèõ ïîìåðêëè, è ïàëüöû ñëîâíî âîñê». «Õóäîæíèê óòîíóâøèé» ýòî Í. Í. Ñàïóíîâ. Îí âìåñòå ñ Êóçìèíûì è äðóãèìè ïðèÿòåëÿìè êàòàëñÿ íà ëîäêå ïî Ôèíñêîìó çàëèâó, è ëîäêà ïåðåâåðíóëàñü. Âñå âûïëûëè, à íå óìåâøèé ïëàâàòü Ñàïóíîâ óòîíóë. Ýòà ãèáåëü ïîòðÿñëà Êóçìèíà, è îí íåñêîëüêî ðàç âîçâðàùàëñÿ ê íåé â ñòèõàõ:
Ñêàçàë: «ß íå óìåþ ïëàâàòü».
È âîò îòïëûë ïëîõîé ïëîâåö
Òóäà, ãäå óæ ñïëåòàëà ñëàâà
Òåáå ëàçîðåâûé âåíåö.
«Ñàïóíîâó»
«Ãóñàðñêèé ìàëü÷èê ñ ïðîñòðåëåííûì âèñêîì» ýòî êîðíåò Âñåâîëîä Êíÿçåâ, âîñïåòûé Àííîé Àõìàòîâîé â åå «Ïîýìå áåç ãåðîÿ», àâòîð êíèãè ñòèõîâ.
Íåêîòîðûå ñòèõè êíèãè «Ôîðåëü ðàçáèâàåò ëåä» õîðîøè è ñàìè ïî ñåáå, êàê ëèðèêà, äàæå èçâëå÷åííûå èç ñëîæíîãî ôèëîñîôñêîãî êîíòåêñòà, ÷àñòüþ êîòîðîãî îíè ÿâëÿþòñÿ. Ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ ëèòåðàòóðîâåäîâ, «Âòîðîé óäàð» èç «Ôîðåëè» ïîñëóæèë ñâîåãî ðîäà êàìåðòîíîì äëÿ «Ïîýìû áåç ãåðîÿ».
Êîíè áüþòñÿ, õðàïÿò â èñïóãå,
Ñèíåé ëåíòîé îáâèòû äóãè,
Âîëêè, ñíåã, áóáåíöû, ïàëüáà!
×òî äî ñòðàøíîé, êàê íî÷ü, ðàñïëàòû?
Ðàçâå äðîãíóò òâîè Êàðïàòû?
 ñòàðîì ðîãå çàñòûíåò ìåä?
Êîíå÷íî, ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè ïîýò áûë ñïëîøíûì àíàõðîíèçìîì. «Îí, ìíå êàæåòñÿ, ñìåðòåëüíî ñêó÷àë â ýòîé ýïîõå (…), íå ïðèíèìàÿ åå òàê æå, êàê îíà åãî íå ïðèíèìàëà», ïèñàë óæå öèòèðîâàííûé íàìè Â. Í. Ïåòðîâ.
Ïîñëåäíåé ïóáëèêàöèåé åãî áûë ïåðåâîä èç ãîìåðîâîé «Èëèàäû» «Ïðîùàíèå Ãåêòîðà ñ Àíäðîìàõîé» â æóðíàëå «Çâåçäà» (1934).
Äî êàêîé-òî ñòåïåíè åìó ïîâåçëî: îí óìåð â Ëåíèíãðàäå 3 ìàðòà 1936 ãîäà ñîáñòâåííîé ñìåðòüþ. À åãî äðóã Þðêóí è æåíà ïîñëåäíåãî â 1937 ãîäó áûëè àðåñòîâàíû, ïîýòîìó íå ñîõðàíèëèñü íè âåùè, íè àðõèâû.
Ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò îæèâëåíèå èíòåðåñà ê Êóçìèíó, âûøëî íåñêîëüêî èçäàíèé, â òîì ÷èñëå ñîëèäíûé òîì ïðîçû, íå ïóáëèêîâàâøåéñÿ ñî âðåìåí ðåâîëþöèè. Íåçàâèñèìî îò òîé èëè èíîé êîíúþíêòóðû, ýòî ïîýçèÿ èñòèííàÿ, çíà÷åíèå è âëèÿíèå êîòîðîé íèêòî îòìåíèòü íå â ñîñòîÿíèè.
Ëèòåðàòóðà
1. Ãóìèëåâ Í. Ïèñüìà î ðóññêîé ïîýçèè. Ïã.: Ìûñëü, 1922.
2. Èâíåâ Ð. Âñòðå÷è ñ Ì. À. Êóçìèíûì // Çâåçäà. 1982. ¹ 5.
3. Êóçìèí Ì. Ñòèõè è ïðîçà. Ì.: Ñîâðåìåííèê, 1989.
4. Êóçìèí Ì. Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ. Ë.: Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, 1990.
5. Íåâçãëÿäîâà Å. Äóõ ìåëî÷åé ïðåëåñòíûõ è âîçäóøíûõ (Î ëèðèêå Ì. Êóçìèíà) // Àâðîðà. 1988. ¹ 1.
6. Îäîåâöåâà È. Íà áåðåãàõ Íåâû. Ì.: Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, 1988.
7. Îðëîâ Â. Í. Ïåðåïóòüÿ. Ì.: Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, 1976.
8. Ïëàòåê ß. Ðàäîñòü ïðîñòîòû. Çàìåòêè î Ìèõàèëå Êóçìèíå // Ìóçûêàëüíàÿ æèçíü. 1989. ¹ 21-23.
9. Ðåìèçîâ À. Ïîñëóøíûé ñàìîêåé (Ì. Êóçìèí). Ëèòåðàòóðíûé ïîðòðåò // Ëèòåðàòóðíàÿ ó÷åáà. 1990. ¹ 6.
10. Òèìîôååâ À. Èç ïëåíà çàáâåíüÿ // Íåâà. 1988. ¹ 1.
11. Òîëìà÷åâ Ì. Îí áûë ïîýò ïåðâîðàçðÿäíûé // Êíèæíîå îáîçðåíèå. 1988. 3 àïð.
Сегодня 136-ая годовщина со дня рождения великого русского поэта Михаила Алексеевича Кузмина. По сему случаю помещаю в дневнике первую главу из книги, которую заканчиваю для издательства «Молодая гвардия» («ЖЗЛ»). Надеюсь, что к следующему дню рождения поэта она уже будет выпущена в свет.
Глава первая
ДЕТСТВО
Моряки старинных фамилий,
влюбленные в далекие горизонты,
пьющие вино в темных портах,
обнимая веселых иностранок;
франты тридцатых годов,
подражающие д’Орсе и Брюммелю,
внося в позу дэнди
всю наивность молодой расы;
важные, со звездами, генералы,
бывшие милыми повесами когда-то,
сохраняющие веселые рассказы за ромом,
всегда одни и те же;
милые актеры без большого таланта,
принесшие школу чужой земли,
играющие в России «Магомета»
и умирающие с невинным вольтерьянством;
вы – барышни в бандо,
с чувством играющие вальсы Маркалью,
вышивающие бисером кошельки
для женихов в далеких походах,
говеющие в домовых церквах
и гадающие на картах;
экономные, умные помещицы,
хвастающиеся своими запасами,
умеющие простить и оборвать
и близко подойти к человеку,
насмешливые и набожные,
встающие раньше зари зимою;
и прелестно-глупые цветы театральных училищ,
преданные с детства искусству танцев,
нежно развратные,
чисто порочные,
разоряющие мужа на платья
и видающие своих детей полчаса в сутки:
и дальше, вдали – дворяне глухих уездов,
какие-нибудь строгие бояре,
бежавшие от революции французы,
не сумевшие взойти на гильотину, –
все вы, все вы –
вы молчали ваш долгий век,
и вот вы кричите сотнями голосов,
погибшие, но живые,
во мне: последнем, бедном,
но имеющим язык за вас,
и каждая капля крови
близка вам,
слышит вас,
любит вас;
и вот все вы:
милые, глупые, трогательные, близкие,
благословляетесь мною
за ваше молчаливое благословенье.
Май 1907
Михаил Алексеевич Кузмин родился в Ярославле 6 октября 1872 года, все споры о месте и времени его рождения давно закончены, крестили его в ярославской Христорождественской церкви. Он сам, кокетничая, как барышня, приуменьшал себе годы уже в девятьсот шестом году, когда делал исправления в своем дневнике, и позже. Поэтому неправильная дата, 1875 год рождения, бы-ла написана даже на его могиле. А в Энциклопедическом словаре изд. Гранат, в томе вышедшем при его жизни, до революции, стоял даже 1877 год. В истории такие случаи далеко не редки.
При рождении младенца, отцу его, отставному военному Алексею Алек-сеевичу Кузмину, было 60 лет, а матери, Надежде Дмитриевне, урожденной Фе-доровой, – 40. Всего детей было пятеро: Алексей, Дмитрий, Варвара, Анна и Михаил Кузмины, младший брат, имени которого мы не знаем, умер совсем ре-бенком. Миша Кузмин был предпоследним ребенком в большой семье. Поздние дети часто бывают талантливы и гениальны. При этом, как известно, возраст матери не имеет значения, главное, чтобы бы отец был стар, тогда хромосомный ряд дает сбой и рождаются гении. Бывают, конечно, гении абсолютного здоро-вья, а потому абсолютные гении, но навскидку я могу вспомнить только одного – Александра Сергеевича Пушкина.
<lj-cut text> Отец Кузмина, Алексей Алексеевич, родился в 1812 году, в 1825 окончил Морской кадетский корпус, в 1842 году был «уволен от службы чином капитан-лейтенанта». В 1849 году арестовывался по подозрению в причастности к делу петрашевцев, тому самому, по которому был осужден великий русский писатель Ф.М. Достоевский. Был он в молодости, по словам самого Кузмина, очень кра-сив красотою южного и западного человека, был моряком, потом служил по вы-борам, вел, как говорят, бурную жизнь и к старости, каким его знал сын-подросток, был человек с капризным, избалованным, тяжелым и деспотическим нравом. Когда родился Кузмин, он был членом Ярославского окружного суда. Умер он в 1886 году, когда Кузмину было четырнадцать лет. Крестной матерью Кузмина была его старшая сестра Варвара Алексеевна.
Кузмин гордился, что происходил по материнской линии от французско-го актера Офрена, служившего в императорском театре при Екатерине II. Два раза Кузмин возвращался в своих дневниках к семейным преданиям, в 1906 и в 1934 годах. Нам и другим исследователям удалось кое-что выяснить и помимо него. Сведем все имеющиеся на сегодня сведения воедино. Жан Риваль, такая была настоящая фамилия Офрена (Офрен – сценический псевдоним, будем в дальнейшем придерживаться такого написания), пращур Кузмина, был сыном женевского часовщика Даниэля Риваля, родился он, по одним сведениям в 1728, по другим на два года позже. Он дебютировал в «Комеди Франсез» в 1765 году, что поздновато для актера, чем он занимался до этого, мы не знаем. Возможно, по практике того времени, был подмастерьем у своего отца, и, возможно, играл в провинции. После Парижа, он играл на сценах Берлина и Потсдама. Кузмин правильно предполагал, что «о нем есть в переписке Вольтера с Фридрихом». Прусский король Фридрих Великий излагал свои впечатления от игры Офрена в письмах Вольтеру от 5 и 9 июня 1874 года, а также в переписке 1875 года. В этом же году, по рекомендации Вольтера, он был приглашен в Россию и с тех пор состоял во французской труппе в Петербурге. В те времена Россия была Меккой для актеров, художников, архитекторов, потому что несметные богат-ства русских царей и высшей знати позволяли щедро оплачивать их труды. Оф-рен в России не только играл во французской труппе, но, как при Екатерине II, так и в павловское время, давал уроки актерского мастерства. Князь Иван Ми-хайлович Долгоруков в молодости был с ним знаком и так описывает француза в своей знаменитой книге «Капище моего сердца или словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни»:
«Офрен. Актер французского императорского театра при Екатерине. Иг-равши сам комедию, я был под руководством его в труппе принцессы Барятин-ской и, там с ним познакомясь, ходил брать уроки мимического искусства. Он меня полюбил, нашел во мне способность подражательскую и, примерно обучая представлять разные роли, довел до того, что я мастерски перенимал его голос, ухватки, игру и вообще всю его дикцию или произношение; сходство с ним произвело ту славу, которую я стяжал в молодости на всех благородных теат-рах. Офрен сам иногда, запершись со мной в одной горнице, заставлял в другой жену свою отгадывать, кто из нас какую роль читает, и та нередко ошибалась. Сенатор Стрекалов, управляющий придворными увеселениями, увидя меня од-нажды на сцене, сказал мне: «Жаль мне, что вы князь Долгорукий, а то бы я вам дал тотчас четыре тысячи жалованья и принял ко двору». Имея действительно натуральную склонность к театру и охоту, я много обязан Оффрену за те успе-хи, коими пользовался и кои наполнили многие дни жизни моей живейшими удовольствиями». Князь описывает свои занятия с Офреном в 1786 году. В сво-их воспоминаниях князь И.М. Долгоруков, приводя анекдот о Стрекалове, до-бавляет: «Он и сам не получал по службе такой суммы». Это лишний раз гово-рит о том, что иностранные актеры оплачивались щедро и щедрость эту ценили. Известен случай с другим французским актером Флоридором, которого одна знатная и богатая дама после представления «Танкреда» призвала к себе и, на-говорив тысячу вежливостей, просила принять от нее в память доставленного ей удовольствия золотую табакерку со вложением ста империалов. Флоридор при-нял табакерку, но от денег отказался, сказав, что имеет счастье служить великой государыне и в деньгах нужды не имеет, а всякая сумма, приобретенная мимо высочайших щедрот, для него предосудительна. Разумеется, императрица узна-ла о том на другой же день, и при первом случае Флоридор получил двойное вознаграждение.
Артисты ценили такое к ним отношение и часто навсегда оставались в России, что, как мы предполагаем, и произошло с Офреном. Тем более что все спектакли, как при большом дворе, у императрицы, так и при малом, у великого князя Павла Петровича, играли по-французски, «другого наречия при дворе не было».
К павловскому времени относится упоминание Офрена в воспоминаниях Филиппа Филипповича Вигеля, который видел актера уже немолодым. Желч-ный Вигель критикует его за то, что тот взялся играть комедии, не имея к этому способностей. Судя по всему, он несправедлив, ибо князя Долгорукова Офрен натаскивал именно в комедийных ролях, а тогда учили только с голоса. Вигель даже рассказывает историю, что после смерти Екатерины, когда мадам де Гюс покинула сцену и уехала в ссылку за сожителем своим графом Марковым, и разъехались другие французские актеры, в труппе не осталось никого, кроме старого Офрена, кто мог бы играть трагедии. Ему же приходилось играть и ко-мические роли. Вигель видел Офрена в водевиле в роли старого отца, для кото-рой, подчеркивает мемуарист, он был уже слишком стар. И то, в 1800 году, ко-гда Вигель впервые оказался в Петербурге, Офрену было уже семьдесят лет, и вся его актерская карьера была в прошлом. Первый контракт с Офреном был заключен 13 июня 1875 года и потом не раз возобновлялся, последний контракт был заключен на трехлетие с 1 мая 1798 года, и больше не возобновлялся. Зна-чит, с начала царствования Александр I Офрен уже не играл на театре, но мы знаем, что еще в 1807 году он продолжал давать советы известному актеру французской труппы Деглиньи, по словам С.П. Жихарева, «наследовавшему его дикцию и занявшему на той же сцене его амплуа». Знаменитый театрал Степан Петрович Жихарев, еще будучи студентом, слышал в 1805 году рассказы одного отставного суфлера В.А. Булова, известного под именем «дедушки», об актере Офрене: «Офрен кажется сам по себе и невзрачен, а уж что за актер! Когда, бы-вало, играет Зопира, Аржира или Августа, – так все навзрыд и плачут. Я, греш-ный человек, по-французски худо маракую, но, стоя за кулисами, от Офрена всегда приходил в душевное волнение и даже плакал». Кроме того, у него оста-валась возможность давать уроки актерского мастерства, еще при императрице Екатерине II, под руководством Офрена в кадетском корпусе разыгрывались французские спектакли. Как видим, он преподавал и позже.
«У него была дочь, которую он решил отдать только за актера, – пишет Кузмин в своем дневнике в 1934 году: – В нее влюбился молодой эмигрант (ве-роятно, Офрен загостился в России), чтобы исполнить условие, он сделался ак-тером, актером он был неважным. Но и дочь Офрена, кажется, неважная была актриса, но они поженились и, родив дочку, умерли молодыми».
Наверное, Кузмин ошибается, и Офрен не просто загостился в России, а остался в ней навсегда, хотя не можем утверждать наверное, мы ничего о его последних днях не знаем. Родители его бабушки выходили на сцену и 1805 го-ду, и в 1807-м.
«Госпожа Монготье довольно изрядно пела, но употребляла во зло доз-воление, которое имели тогда певицы – быть безобразными, не уметь ни ходить, ни говорить, ни одеваться», – писал о ней Вигель.
Дмитрий Яковлевич Федоров, директор или как его еще называли управ-ляющий театральным училищем, женился на «прекрасной собою танцовщице Монготье», это была бабушка Кузмина, Екатерина Львовна, та самая единст-венная дочь Леона Монготье и дочери Офрена, той самой, что не умела ходить, говорить и одеваться. Родители ее умерли, и Катиш воспитывалась у тетки, по-том в Театральном училище, и вышла замуж за Федорова, как говорят, не кон-чивши курса. Свадьба их состоялась в 1832 году, и, судя по всему, в этом же го-ду и родилась мать Кузмина, Надежда Дмитриевна, их старшая дочь, хотя неко-торые исследователи принимают другую дату, 1834 год, что неверно. Обе даты основываются на словах Кузмина, первая – на словах, написанных в 1906 году, вторая – в году 1928-ом. Но Кузмин уверенно пишет, что мать его умерла 72-х лет, осенью 1904 года, и пишет всего через два года после ее смерти, чего же еще. Мы безусловно принимаем первую версию, поскольку свадьба состоялась в 1832 году и чего ждать-то было, тем более что дети потом рождались исправ-но, всего их было четверо: к Надежде прибавился еще сын Яков, и две дочери: Анна и Елизавета. Родилась Надежда Дмитриевна в Театральном училище, в верхнем этаже, окна которого выходили на Александринский театр, в правом флигеле.
Но сначала несколько слов о бабушке. Екатерина Львовна вышла замуж, едва ей минуло шестнадцать лет, в театре она танцевала партии амуров. Была она нрава веселого, легкого, если не сказать ветреного. Как вспоминает Кузмин, овдовела рано, и жила вдовой на Крюковом канале у Никольского рынка в доме генерала Фуругельм. Вдовой она стала после 1842 года, потому что в этом году ее муж был уволен от должности и, вероятно, вскоре умер. Про Екатерину Львовну рассказывали следующий анекдот. Какой-то поклонник заключил па-ри, что поедет кататься с ней, чего она не хотела. Тогда поклонник переоделся лихачом, подкараулил ее и прокатил.
Она купалась с крошечным зонтиком, закрываясь от посторонних взоров. Если появлялись мужчины, ее предупреждали об этом, но, бывало, она отвеча-ла: «Какие же это мужчины! Это – мужики!» Тогда она не закрывалась зонти-ком.
Своих детей, когда они были маленькие, она видела полчаса в день, при-нимая их еще в кровати, осматривая, чисты ли руки, в порядке ли прическа и платье, спрашивала, как здоровье и больше целый день они ее не видели.
…разоряющие мужа на платья
и видающие своих детей полчаса в сутки…
У нее на журфиксах бывал сочинитель Николай Васильевич Гоголь, дружила она с бабушкой Лермонтова, Арсеньевой. Дети не любили Рафаила Зо-това, известного литератора, театрала, который приходился каким-то родствен-ником и на этих правах часто обедал и храпел в гостиной после обеда на диване, на котором дети обыкновенно играли. Диван попеременно был у них то парохо-дом, то островом.
Однажды бабушка приехала к Кузминым, когда Мише уже было годика три. Приехала расфуфыренная, в кринолине. Платье с кринолином имеет жест-кий, проволочный каркас подола. Бабушка крутилась по комнатам, кринолин болтался из стороны в сторону, зашла она и в детскую, где на полу играл маль-чик. «А где же Миша?» Все глядят, а мальчика нет, всполошились. Оказалось, старая кокетка замела его кринолином под кровать и он лежит там ни жив ни мертв. Старшие любили потом рассказывать этот анекдот.
Бабушка перешла из католичества в православие, говоря, что ксендзы вмешивались в личную жизнь, как старые девы, страдая «болезненным эротическим любопытством». А личная жизнь у нее была бурная. Свою старшую дочь, мать Кузмина, она выдала замуж за «старика», своего любовника А.А. Кузмина, когда он ей надоел. Он был ровесником Екатерины Львовны.
Надежда Дмитриевна, мать Кузмина, училась в пансионе в доме Бенуа, угол Никольской улицы и Екатерингофского проспекта. Дом этот был куплен в 1799 году метрдотелем императрицы Марии Федоровны Луи Бенуа и перешел по наследству к его сыну, Николаю Леонтьевичу Бенуа, придворному архитек-тору Николая I. Его младший сын, Александр Бенуа, описал этот дом в своих воспоминаниях. «Вначале «Дом Бенуа» был всего в три этажа (по русскому сче-ту), но в архитектурном смысле он был тогда гораздо красивее, нежели каким он стал потом: он даже был настолько красив со своими группами тройных окон под полукруглыми арками, что его можно было приписать самому Кваренги. К сожалению, папа, которому дом достался в наследство, пожелав увеличить его доходность, надстроил еще один этаж, и это обезличило фасад, ибо хотя трой-ные окна и остались, но как раз типичными полукружиями над ними пришлось пожертвовать. Зато сохранились в целости прелестные маски над окнами нижнего этажа, и нетронутой осталась и характерная парадная лестница.
Эта парадная лестница начиналась внизу с прямого, ведшего в глубь ко-ридора под убранным сочными розетками сводом, а затем сворачивала влево и опять поднималась широкими всходами между массивными столбами; на каждом повороте открывалась характерная перспектива. Все это носило тяжелый и несколько мрачный характер, но и усиливало одновременное впечатление чего-то крепкого и надежного, почти крепостного». Мы намеренно привели это опи-сание, что подчеркнуть, что пансион располагался в весьма престижном доме, значит, обучение в нем было недешево. Поскольку муж бабушки был государ-ственным служащим, она после его смерти получала хорошую пенсию. Возможно, что после родителей у нее остался и какой-то свой капитал. Она жила безбедно и, выдав замуж своих дочерей.
Итак, три сестры были на выданье, Анна выделялась, как самая хоро-шенькая, Елизавета – как самая бойкая и покладистая, но некрасивая, а мать Кузмина, старшая из сестер, всегда сидела в углу. «Она была очень маленького роста, – пишет Кузмин в 1934 году, – гладкие черные блестящие, как у китаянки, волосы, белое лицо с ярким румянцем и темно-серые глаза, от волнения на-ливавшиеся невообразимой и сверкающей синевой, несколько нахмуренные брови».
Всю жизнь, что помнит ее Кузмин, она ходила в кофтах и платьях 60-х годов, а потом и вовсе в безвременных старушечьих облачениях. Когда она по-шла за «старика» Кузмина, девичья веселая жизнь кончилась, пошли дети, Алексей, Дмитрий (1865), Варвара, Анна, семейные тяготы, переезды с места на место (Москва, Рыбинск, Ярославль). В Ярославле родился наш герой.
Всего полтора года прожил маленький Миша Кузмин в Ярославле, потом семья перебралась в Саратов. Видимо в Саратове родился еще его маленький брат, и умер в малолетстве, – Кузмин и в старости помнил его лежащим в гробике. </lj-cut>