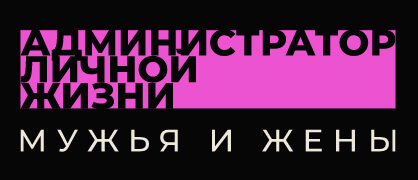Наталья горбаневская биография личная жизнь

Частное дело двоих
…поэзия – частное (или личное) дело двоих. Стихотворца и читателя (слушателя). Если она останется частным делом только сочинителя, то есть не пройдет путь “от сердца к сердцу”, она не станет поэзией. Если же стихотворец хочет быть демиургом, двигать толпами (мне никогда такого и в страшном сне не снилось), то ему нужно найти этот путь к сердцу каждого из толпы. Но я сомневаюсь, что это возможно: толпа управляется иными законами, ее можно возбудить – на время, а потом она пойдет себе дальше.
Наталья Евгеньевна Горбаневская – поэт, переводчик, филолог, журналист, известный правозащитник. Начала печататься с конца 1950-х в самиздате. С 1975-го живет на Западе. Там же изданы ее поэтические книги: “Побережье” (Анн Арбор, 1973), “Три тетради стихотворений” (Бремен, 1975), “Перелетая снежную границу” (Париж, 1979), “Ангел деревянный” (Анн Арбор, 1982), “Чужие камни” (Нью-Йорк, 1983), “Переменная облачность” (Париж, 1985), “Где и когда” (Париж, 1985), “Цвет вереска” (Тинафлай, США, 1993). С 1996-го книги Натальи Горбаневской публикуются и в России (в основном в издательстве “Арго-Риск”), совсем недавно ее избранное “Русско-русский разговор” вместе с книгой стихов 2001 года “Поэма без поэмы” увидело свет в издательстве “ОГИ”.
– Вы живете на Западе с 1975 года, то есть довольно давно, и, вероятно, видите современную российскую поэзию как бы со стороны. Это каким-то образом воздействует на ваше творчество? Или все давно “устаканилось”?
– Нет, не “устаканилось”, в стихах (будем говорить о стихах, а не о “творчестве”) все время что-то меняется, что-то основное остается неизменным. Но не свяжу этого с состоянием современной русской – не российской, а русской по обе стороны госграницы – поэзии: я ее читаю просто как читатель, и в ней много интересного и даже замечательного, но воздействия она на меня не оказывает. Я по-прежнему люблю стихи Льва Лосева (пожалуй, самого близкого мне поэта, но эта близость – ни в коем случае не результат взаимовлияния), Бахыта Кенжеева – эти имена приходят мне на ум первыми естественно, но вдобавок еще и потому, что за последнее время оба опубликовали в журналах по две замечательные подборки. Очень много прекрасной поэтической молодежи, да и поэтов между тридцатью и сорока, но я не хочу называть имен, просто потому что боюсь кого-нибудь забыть, а это будет несправедливо. Конечно, мне нравится не все, что случается читать, но так ведь бывает всегда.
– Сегодня в России существуют как бы две полярные точки зрения: одна из них настаивает на том, что поэзия – “частное дело каждого”, вторая – опираясь на опыт прошлого – говорит о гражданской роли поэта в жизни общества, о том, что он призван прорицать, воздействовать на массы и т.д. Какая точка зрения вам ближе?
– Мне кажется, что странным образом в обеих точках зрения не учитывается (хотя, может быть, подразумевается) одно и то же, и очень простое: поэзия – частное (или личное) дело двоих. Стихотворца и читателя (слушателя). Если она останется частным делом только сочинителя, то есть не пройдет путь “от сердца к сердцу”, она не станет поэзией. Если же стихотворец хочет быть демиургом, двигать толпами (мне никогда такого и в страшном сне не снилось), то ему нужно найти этот путь к сердцу каждого из толпы. Но я сомневаюсь, что это возможно: толпа управляется иными законами, ее можно возбудить – на время, а потом она пойдет себе дальше. Поэт – возьмем к примеру Бродского – сам не в толпе, не над толпой, не перед толпой, он, как завещано Пушкиным, живет один. Живет один, а сочинив стихи, оказывается вдвоем, и этих “вдвоем” может быть как угодно много, но вторые члены этой пары не складываются в толпу или даже общество, они тоже живут одни.
– Я знаю, что в 1983 году, выступая на конференции журнала “Континент” в Милане, вы прочли текст “Язык поэта в изгнании”, да и всегда профессионально интересовались развитием языка как филолог. Не потому ли появилась статья о нашем “датчанине” (Дале), которая мне кажется великолепной. Как вы пришли к этому?
– Одну причину вы уже назвали: филология. Филолог я, конечно, в научном смысле никакой, но филологическая жилка во мне постоянно трепещет. Словари – мои любимые книги, а словарь Даля – любимая из любимых. А другая – то, о чем говорил Бродский, в частности, в интервью, которое дал мне в Париже: не язык – инструмент поэта, а поэт – инструмент языка. А Лосев сформулировал это смешнее и, пожалуй, еще вернее: “И, как еврейка казаку, Стих поддается языку”.
Славянские языки вообще, а русский в особенности, – порождают поэзию. Сейчас, читая в книгах или чаще в интернете множество стихов известных мне и раньше неизвестных поэтов, я не устаю удивляться свободе языка, ткущего самые причудливые и новые комбинации смыслозвука.
– За время вашей работы в “Континенте” и “Русской мысли” через вас прошло много разных произведений, в том числе написанных и теми, кого называют “ди-пи”, в первую очередь я имею в виду таких авторов, как Иван Елагин, Николай Моршен, Игорь Чиннов. Что это были за люди, общались ли вы с ними, что еще не вернулось в Россию стихами?
– Названных вами поэтов “Континент” печатал, но ни с кем из них я лично не встречалась. Мне – как, кстати, и Владимиру Максимову – было интереснее всего открывать новых поэтов (а ему – и прозаиков). Так, еще в начале моей работы в “Континенте” нам привезли из Москвы стихи Бахыта Кенжеева. Потом Бахыт передал нам – тоже еще из Москвы – альманах “Московское время”, и мы впервые напечатали Александра Сопровского, Сергея Гандлевского и других поэтов этой группы. Много позже, уже живя в Канаде, тот же Бахыт прислал нам поэму Тимура Кибирова. Сама я получила из Москвы очень занятные стихи Ольги Рожанской, а из Ленинграда – стихи поэтов группы “Камера хранения”: Ольги Мартыновой, Дмитрия Закса, Валерия Шубинского и Олега Юрьева. Случалось мне открывать новых поэтов и среди эмигрантов: Андрея Лебедева в Париже, например. Это не значит, что мы публиковали только наши открытия: кого мы один раз полюбили – из молодых ли, из признанных, независимо от места пребывания и, в случае эмигрантов, от “волны” эмиграции – мы продолжали печатать. Не печатали мы только тех, кто сам не присылал нам стихов, и в этом смысле в “Континенте” оказались некоторые пробелы, такие как Геннадий Айги, например, или покойный Александр Величанский. Я вижу, что не отвечаю на ваш вопрос, но рассказала о том, что мне самой интереснее, поэтому, может быть, окажется интереснее и нашему с вами читателю.
– Расскажите о ваших привязанностях в литературе прошлого, сегодняшнего; есть ли у вас “свои” композиторы, живописцы?
– Если говорить о поэзии, то самый сжатый список – Пушкин, Мандельштам, Ахматова, Бродский (и ни на кого из них я не похожа). В прозе – Достоевский, Диккенс, вообще скорее англо-американская литература, чем какая-то другая, кроме разве что польской. Но польская проза – только ХХ века. Например, я переводила – по любви, а не по необходимости – Марека Хласко, Тадеуша Конвицкого, Славомира Мрожека. И, хотя переводила уже по необходимости (надо было для “Континента”), но полюбила печальнейшую книгу Казимежа Орлося “Дивная малина”. Помню, одна моя мудрая знакомая (Т.М. Литвинова) сказала мне со вздохом после чтения этого романа: “Мы-то думали, у них лучше…”
А “моя” польская поэзия – это и самая старая, Ян Кохановский, XVI век, и в XIX веке Норвид, один из самых великих поэтов во всей мировой литературе, а в ХХ – Юлиан Тувим, совсем, по-моему, неизвестный в России Юзеф Чехович и, конечно, Чеслав Милош и Кшиштоф Камиль Бачинский. О нем и о других, по цитате из Милоша, “двадцатилетних варшавских поэтах”, погибших во время войны, я недавно написала статью – в журнал “Новая Польша” (2004, # 11). А еще – и мой близкий друг Виктор Ворошильский, и мой ровесник и друг Ярослав Марек Рымкевич, и из родившихся после войны – Станислав Баранчак (вдобавок замечательный переводчик, в частности Бродского). Из всех названных я не переводила только Кохановского, Тувима и Чеховича, а еще переводила много и стихов, и прозы, и статей – это очень важная часть моей жизни, которая продолжается и по сей день. Если говорить о польской прозе, назову еще два имени писателей, книги которых купила в Варшаве две недели назад и которые произвели на меня сильное впечатление: Ежи Пильха (он уже есть по-русски в переводе Ксении Старосельской) и Войцеха Кучока, лауреата премии “Нике”, главной польской литературной премии (заметим, что государственных премий там нет).
Да, вы же еще спрашивали о музыке и живописи. Когда-то на психиатрической экспертизе на вопрос печальной памяти профессора Лунца о любимых композиторах я ответила: “Моцарт, Шуберт, Прокофьев”. Это отчасти так и сегодня – с той разницей, что Прокофьева, может быть, люблю чуть-чуть меньше, а Шуберта намного больше – просто тогда я еще многого из его сочинений не слышала. Но почти так же люблю Баха, Гайдна, Шумана, Шостаковича. И джаз – настоящий, хороший, разный – не меньше, чем всю названную классику.
А там, где слово соединяется с музыкой (впрочем, это уже есть у названных композиторов – достаточно привести в пример песни Шуберта и “Антиформалистический раек” Шостаковича), очень люблю старинные русские романсы, песни Булата Окуджавы, а сейчас, например, по много раз с радостью слушаю компакт-диск раннего “Аквариума”.
Без музыки я вообще прожить не могу. Без живописи… Пожалуй, тоже трудно. Как когда-то полюбила импрессионистов и постимпрессионистов, так и люблю, тем более что лучшее их собрание – у нас в Париже, в Музее Орсе. Тем не менее в прошлом году, впервые в жизни попав в нью-йоркский музей “Метрополитен”, обалдела перед тамошним Дега и готова была утверждать что это “лучший художник всех времен и народов”. Но… еще же есть и итальянское Раннее Возрождение, и фламандцы от Яна ван Эйка и Рогира ван дер Вейдена, и Брейгель. А еще наши “бубнововалетчики”. Вот без всего этого жизнь была бы “мрачная пустыня”.
– Насчет “сжатого” списка понятно, а вот что подвигло на написание первого стихотворения?
– Не знаю, что считать “первым стихотворением”. Семейные предания донесли четверостишие, сочиненное мной в четыре года. Очень занятное, так как в нем в зародыше содержится моя будущая поэтика (соответствующая принципу “в огороде бузина, а в Киеве дядька”), так как оно написано не хореем (см. Чуковского), а ямбом и так как в нем отчасти предсказаны некоторые детали моего нынешнего будущего. Вот оно: “Душа моя парила, / А я варила суп, / Спала моя Людмила, / И не хватило круп”.
Людмила – кукла, которая у меня была и которую я совсем не помню. Но теперь у меня младшую внучку родители назвали Миленой, и если я уговорю их крестить ее, то она, конечно, будет Людмилой (потому что Милочка). “Душа моя парила” – несомненно, под влиянием Лермонтова, которого мама мне и читала, и пела, а вскоре я начала читать и сама. А супы я, никогда не умевшая готовить, принялась варить с начала 90-х (как говорит мой старший сын: “Как коммунизм рухнул, мать принялась готовить супы”), и не только в Париже, но и в Москве (спросите Рейна) славится “борщ у Горбаневской”.
Но так как я сама это четверостишие не запомнила, то какая мелодия меня к нему привела, не могу сказать. Зато помню другой случай, уже ближе к пяти годам. Нам с братом подарили Брема, и я его усиленно читала. И внезапно на одном развороте я прочитала подписи под четырьмя картинками и услышала их как стихи, то есть услышала, как слова, которые не собирались быть стихами, становятся таковыми: “Датский дог. / Немецкий дог. / Ирландский дог. / Шотландский дог”.
Вообще же мелодия возникает у меня на ходу или в транспорте, мне нужно движение. Скажем, три стихотворения 1956 года, которыми открывается любое мое избранное, полное или неполное, все сочинены при поздних возвращениях домой трамваем, то есть частично в трамвае, частично на ходу.
– Что вы считаете самым главным из ваших встреч-общений с Анной Ахматовой?
– Встречи с Ахматовой научили меня относиться к себе не как из ряда вон выходящему, “высшему” существу, “поэту” – по традиции романтиков, в ХХ веке особенно сильной у Цветаевой, а как к человеку, по воле Божией получившему дар (без всяких своих заслуг) и долженствующему этим даром распорядиться как можно лучше. Это включает, конечно, и самоконтроль, и немалую долю иронии по отношению к себе, защищающую от разрастания самоуважения. При том что Ахматова, конечно, знала и понимала, КАКОЙ она поэт.
Перескажу случай, который рассказываю часто. Пришла к ней художественная чтица (по фамилии Бальмонт – “на афише покрупнее Бальмонт, поменьше Блок”, как говорил Миша Ардов), Анна Андреевна, конечно, ее приняла, вежливо слушала, разговаривала. И вот чтица уже уходит и в дверях спрашивает Ахматову: – А говорят, у вас есть “Поэма без чего-то…”
Анна Андреевна была в полном восторге и всем это рассказывала. А представьте себе, что кто-то спрашивает Цветаеву: говорят, у вас есть “Поэма чего-то”! Она бы этого человека на месте убила. При этом мы знаем, как важна была для Ахматовой “Поэма без героя”, начатая в 1940 году и переписывавшаяся до конца ее жизни.
– Вы довольны своими последними изданиями – избранным “Русско-русский разговор”, до этого было “Не спи на закате” – вы этим подвели предварительный итог?
– Первый в жизни итог я подвела книгой “Побережье”, до “Ардиса” вышедшей в самиздате. Но это было такое “избранное”, которое одновременно было “полным”. Совершенно полным, а не “почти”, как потом “Не спи на закате” (то есть все стихи того времени, которые в него не вошли, бесповоротно выброшены). Но и “Не спи на закате”, и “Русско-русский разговор” составляла я сама – чего ж мне быть недовольной? А всерьез-то итогов я не подвожу – живу дальше.
– Как идет работа над новой книгой, рабочее название которой я знаю, “Прозой”?
– Я работаю не так давно, года полтора-два. Туда входят статьи, рецензии, выступления, напечатанные в “Континенте”, “Русской мысли” и других изданиях. Но многое я еще не разыскала, не скопировала, не сосканировала – на все это нужно время. Так что я действительно не знаю, когда закончу предварительную работу. Потом наступит следующий этап: композиция и отбор. Я на слишком многие темы писала и пока условно разделила материал на такие разделы: “О поэзии”, “О прозе”, “Кино, театр, музыка”, “Словари”, “Прошлое”, “Посткоммунизм”, “Запад”, “Польша”. Раздел “О поэзии” можно прочитать на сайте “Новой камеры хранения” (www.newkamera.de).
– Может быть, закончим этот разговор новым стихотворением?
– Предложу стихотворение из книги, которую, как мне кажется, скоро закончу. Называется оно “1941 (из ненаписанных мемуаров)”, написано в Париже 19 ноября 2004 года:
пью за шар голубой
сколько лет
и никак не упасть
за летучую страсть
не унять не умять не украсть
за воздушный прибой
над заливом приливом отлей
из стакана вина
не до дна догори не дотлей
кораблей ли за тот
что несется на всех парусах
юбилей но война
голубой или серенький том
не припомню не помню
не вспом…

Наталья Евгеньевна Горбаневская
Писатель

![]()
Наталья Евгеньевна Горбаневская — русская поэтесса, переводчица, правозащитница, участница диссидентского движения в Советском Союзе, одна из 8 участников демонстрации 25 августа 1968 года против ввода в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора.[1].
[править] Карьера
Наталья Горбаневская родилась 26 мая 1936 года в Москве. Её родители в браке не состояли. Мать — Евгения Семёновна Горбаневская, библиотекарь, русская. Отец — еврей, погиб во время Великой Отечественной войны на фронте.
В 1953 года поступила на филологический факультет МГУ; занималась в литературной студии. Первые публикации её стихов появились в факультетской стенгазете.
В декабре 1956 года была задержана КГБ в связи со знакомством с Андреем Терехиным и Владимиром Кузнецовым, арестованными за распространение листовок с протестом против советской интервенции в Венгрии. Выпущена в обмен на показания против Терехина и Кузнецова.
Осенью 1957 года была исключена из МГУ.
В 1958 году поступила на заочное отделение филологического факультета ЛГУ, в 1964 году окончила его по специальности «филолог, преподаватель русского языка и литературы средней школы».
Затем работала в Москве библиотекарем, библиографом, техническим и научным переводчиком. Была знакома с Александром Гинзбургом и Юрием Галансковым, перепечатывала самиздатские материалы.
С 1959 года её стихи распространялись в Самиздате. В советской печати стихи почти не публиковались.
В 1961 году родила первого сына, в 1968 году — второго.
С 1969 года на Западе издавались поэтические сборники Горбаневской.
С 1967 года по начало 1968 года принимала участие в петиционной кампании вокруг «процесса четырёх», выступала в защиту других лиц, подвергавшихся преследованиям советским режимом по идеологическим мотивам.
Стала инициатором, автором, редактором и машинисткой первого выпуска самиздатовского бюллетеня «Хроника текущих событий» в 1968 года. Под её редакцией вышли первые 10 выпусков.
Участвовала в создании Инициативной группы по защите прав человека в СССР, стала её членом.
Принимала участие в демонстрации 25 августа 1968 года против советской агрессии в Чехословакии. На демонстрацию пришла вместе с коляской с грудным ребёнком. В демонстрации участвовали, кроме неё, К. Бабицкий, Т. Баева, Л. Богораз, В. Делоне, В. Дремлюга, П. Литвинов и В. Файнберг. Горбаневская принесла с собой самодельный чехословацкий флаг и два рукописных плаката: «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!» (на чешском языке) и «За вашу и нашу свободу!» (на русском языке). Была задержана вместе с другими демонстрантами, но в тот же день освобождена; ей предъявили обвинение в «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Не была осуждена вместе с остальными демонстрантами, так как кормила грудного ребёнка.
По заключению психиатрической экспертизы о том, что у неё «не исключена возможность вялотекущей шизофрении», была признана невменяемой.
В конце 1969 года добилась заключения главного психиатра Москвы И. К. Янушевского о том, что она не больна шизофренией и не нуждается в помещении в психиатрическую больницу.
Арестована 24 декабря 1969 года по обвинению в «распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Находилась в Бутырской тюрьме.
В апреле 1970 года в Институте судебной психиатрии имени В. П. Сербского правозащитнице был поставлен диагноз «вялотекущая шизофрения».
С января 1971 года по февраль 1972 года находилась на принудительном лечении «»в Казанской спецпсихбольнице и в институте им. Сербского.
В 1971 году опубликовала свой очерк «Бесплатная медицинская помощь», написанный в марте 1968 года и посвящённый злоупотреблению психиатрией в СССР, в книге «Казнимые сумасшествием». Продолжала правозащитную деятельность, сотрудничала в «Хронике текущих событий».
17 декабря 1975 года эмигрировала. Жила в Париже.
Умерла 29 ноября 2013 года в Париже.
[править] Источники
Поэтка. Книга о памяти. Наталья ГорбаневскаяУлицкая Людмила Евгеньевна
Наташа и ее сыновья
Ясик Горбаневский был первый ребенок, родившийся у моей подруги. Потом подруги нарожали множество детей, и все они называются «наши дети». Они вместе росли, дружили, некоторые переженились, произвели уже «наших внуков». Но Ясик был первым! Совсем недавно, разбирая мемориальный сор, хранящийся в фарфоровой бабушкиной шкатулке, нашла квадратик розово-желтой больничной клеенки, на которой написано химическим карандашом «5 сентября 1961 Горбаневская, мальчик». Это мне Наташа на память подарила. А имени еще не было у мальчика! Мне было всё очень интересно, но я, в сравнении с Наташей, была опытная – у меня был двоюродный брат, на десять лет младше, и моя первая материнская страсть пробудилась на нем, поэтому я умела и купать, и пеленать, и попку мазать. Мне доверяли. Но Наташиным младенцем овладела Евгения Семеновна, оттеснив Наташу. Только грудью Евгения Семеновна кормить не могла – это досталось Наташе.
Оську, когда Наташа сидела, я иногда из яслей забирала. Он ночевал как-то у меня на неудобном диванчике, плакал, спать не давал, а я на него злилась – была еще бездетная, сейчас понимаю, что надо было к себе в постель взять. С ним же был забавный эпизод, уже когда Наташа вышла. Она стоит в раздевалке ясельной группы за шкафчиком, ждет, когда детей выведут, а ее за шкафчиком и не видно. Она слышит, как одна нянька говорит другой: «Так-то он хорошенький, Ося этот, только вот ручки еврейские какие-то». Он и правда был хорошенький, но мы с Наташей над этими «еврейскими ручками» долго смеялись: вот какое чутье у народа – никакой генетик не докопается, а у простой женщины глаз как алмаз, никакого анализа не надо!
Для многих людей это осталось невместимым – как можно было с трехмесячным ребенком идти на демонстрацию, подвергать его опасности. Этот вопрос Наташе потом много раз задавали. Она отвечала всякий раз немного по-разному. Однажды сказала: «глупая была»! Но я думаю, что ситуация сложилась такая, что она действительно уже не могла не выйти на площадь. Перестала бы себя уважать. В стране, где народ потерял самоуважение, бесконечно важно видеть раз в сто лет женщину с коляской на Красной площади, которая говорит «нет» тогда, когда все стыдливо опускают глаза и молчат.
Поступок Наташи вызывал во многих ее друзьях смешанное чувство восхищения и ужаса – это просто безумие!
Психика женщины, имеющей маленького ребенка, настроена на защиту своего малыша. Когда существует угроза его жизни, женщина проявляет чудеса героизма, и героизм этот диктует ее природа. Женщина обычно создает все условия, чтобы ребенку было комфортно… Но что произошло с Наташей? Почему она, вопреки всем тем древним программам, которые работают в женском организме, поставила своего ребенка в положение столь опасное? Ведь в те времена и сомнений быть не могло, что за демонстрацией последуют репрессии… Значит, была какая-то мотивация в ее поведении более сильная, чем материнский инстинкт? Это было ее гражданское чувство. Возник конфликт между инстинктом материнским и социальным, конфликт с собственной совестью… Ее понятие о совести требовало этого самоубийственного действия, и она на него пошла, понимая все последствия.
Наташин поступок нарушал понятие «нормы» – отсюда и это смешанное чувство. Ужас – потому что был нарушен закон сохранения и защиты потомства. Восхищение – потому что она защищала в этот момент свободу других людей, другого народа и другой страны. Это не «нормальное поведение», оно на грани патологии. Именно этим и воспользовался КГБ, который дело Наташи перепоручил психиатрам, а те с готовностью придумали диагноз, которого и на свете нет. Суд в России существует, только правосудия нет. Так и по сей день.
Наташа отсидела свой срок. Вышла, вернулась к своим детям. К своим любимым детям. Да, она была человеком, выходящим за границы нормы. Она была поэтом, и поэтом прекрасным. И уже одно это – за границей средних человеческих способностей. У нее было обостренное чувство справедливости – и это тоже за границами средних человеческих возможностей.
Я ничего не имею против среднего человека, я и сама к этому большинству принадлежу. Но, положа руку на сердце, если какой-то прогресс в нашем мире существует, то идет этот процесс за счет тех «ненормальных», кто умеет переходить границы обыденного… И это – про Наташу. А дети ее всегда любили, гордились ею. И подрастающие внуки тоже.
Л. У.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Похожие главы из других книг:
Б. Самсонов.
Сыновья
Мать умерла рано, а о судьбе отца Валентин ничего не знает до сих пор. Да, видно, и не стремится: то, что сохранила о нем память, вызывает чувство досады и раздражения.Лишь иногда приходит назойливая и тревожная мысль о братишке Леше. Где он, что с ним, как
Глава LXXXIII. Здесь описываются сыновья великого хана
У великого хана от четырех жен, знайте, двадцать два сына. Старшего в память доброго Чингисхана назвали Чиншином; ему бы владеть всею империею и быть великим ханом, но он умер; от него остался сын Темур; этот Темур и будет
Наташа
Наташе под семьдесят. Она – настоящая художница: к чему бы ни прикоснулась, все превращается в произведение искусства. В ее московской квартире находиться невероятно интересно: каждую деталь можно рассматривать часами. Расписные деревянные двери, витражи,
СЫНОВЬЯ
Капитана Григория Лазиашвили я увидел впервые на митинге, посвященном вручению отряду переходящего знамени. Ему, начальнику отличной заставы, доверили право идти впереди знаменосца и ассистентов, сопровождать знамя. Но наслышан о Лазиашвили я был и
Дмитрий Донской и его сыновья
Ольгерд был похоронен по православному обряду, значит, он был крещёным человеком. Какое православное имя у него было? Если это имя было — Иван, многие загадки получают своё объяснение. Например, Корибут Ольгердович становится Дмитрием
ИСТОРИЯ 8: НАТАША
Откуда: Краснодар, Россия Муж: Арон Дети: сын ВивекМесто жительства: Патна, ИндияНе буду подробно останавливаться на истории нашего с мужем знакомства. Наверное, все было банально, это только для меня все так памятно, дорого и трепетно… Интернет-переписка,
Сыновья Бауга
[С. 348.] Жил человек по имени Бауг, молочный брат Кетиля Хенга, который отправился в Исландию и провел свою первую зиму в Баугстадире, а вторую – у Хенга [в Рангарвеллире]. По указанию Хенга он взял под поселение весь район Брейдабольстада, так что его владения
Матрена Павловна Милеева (Мотя), приемная дочь Е. С. Горбаневской
Моя названая сестра Наташа
Моя фамилия Данчевская. Отец мой был арестован. Мама пошла доказывать, чтоб папу освободили, и не вернулась. Папа, кажется, был поляк – наверное, поэтому и загремел. Мне тогда было
Наташа Доброхотова
«Созвала акула рыбок…»
Я и рассказывала уже, и писала, что чуть не всем обязана Наташе Горбаневской. И не я одна могу так сказать. Наташа неслась по жизни от одной сферы к другой, создавая вокруг себя турбуленции, соединяя людей, которые иначе просто не
Павел Литвинов
Наташа сказала: я напишу твой лозунг
1968 год был годом Чехословакии – чехословацкая весна была предметом восхищения и надежды для нас и по той же причине предметом страха и ненависти для советского режима. Связь свободы в Восточной Европе и в СССР была
Наташа Филиппова
На той же конференции я познакомилась с Наташей. Старше меня на несколько лет, она, стесняясь, читала свои детские стихи. Кстати, основная претензия к Наташе заключалась именно в несерьезности выбранной темы. Впрочем, именно тогда по этим невинным стихам
Олег Морозов. Сыновья исповедь
С детства ловлю себя на странном ощущении, что помню войну. Понимаю, что не может быть этого, так как родился я через восемь лет после победного майского салюта. Но ведь помню!Видимо, есть особое свойство человеческой памяти, делающее глаза и
Личное сообщение: почему сыновья фермера оставили свой дом
1974 год, МичиганВ Северном Мичигане температура зимой бывает существенно ниже нуля, и разные материалы, которые обычно легко отделяются друг от друга – например, зерно и капли воды, – смерзаются в цельные глыбы.
ГЛАВА 7
ХРИСТИАНСКИЕ СЫНОВЬЯ КОНСТАНТИНА И ИХ ПРЕЕМНИКИ
«Императоры со времен Константина стали намного более ревностными христианами, чем до того они были язычниками»
Франк Тисс
«Таким образом, всехристианнейший император — покровитель всех христиан, он
IV. Наташа (Переписка с Н.Е.Штемпель [28] )
1Н.Я. Мандельштам – Н.Е. Штемпель 20 февраля <1952 г.>, Ульяновск 20/II Дорогая Наташа!Что с вами? Ни слова, ни звука от вас. Что с вами?Я живу в Ульяновске. Изредка попадаю на несколько дней в Москву, к больному брату. Все стареют вокруг меня,