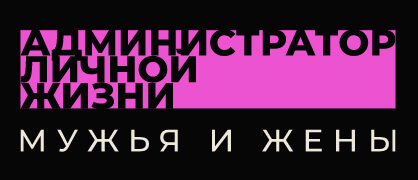Нагибин юрий маркович биография личная жизнь моя золотая теща

Нагибин Юрий
•
Моя золотая теща
Повесть
Конечно, я всегда, как себя помню, знал, что в Москве находится гигантский мотоциклетный завод, но это меня ничуть не волновало. В ту пору мотоцикл был так же недоступен, как автомобиль, я мог мечтать лишь о велосипеде, чем и занимался все свое детство. Ничего не слышал я и о легендарном директоре этого завода Звягинцеве, даже имени его не знал. Такое бывает только со мной: избирательная особенность моего мозга умудряется оставить без внимания выдающиеся явления, громкие события, знаменитых людей, словом, все, что привлекает, волнует, будоражит нормальных граждан. Моя неосведомленность в общеизвестном большинству знакомых кажется позой: строит, мол, из себя отвлеченного гения, и лишь немногие добрые души относят это за счет болезненной рассеянности на грани невменяемости.
Мотоцикл был очень популярен в гражданскую войну и первые годы советской власти. На нем ездили даже члены правительства. Лев Троцкий, занявшийся критической деятельностью в какие-то вакуумные дни своей пошатнувшейся карьеры и решивший написать о Пастернаке, прислал за ним мотоцикл с коляской, чем крайне озадачил пугливого к технике поэта. Мотоцикл был тайной страстью Сталина: он считал всякую любовь непозволительной для политика слабостью и тщательно скрывал даже от близких свои редкие увлечения. На мотоцикле сидят верхом, как на лошади, а неуклюжий, сухорукий, хромой Сталин смолоду неплохо держался в седле и крайне ценил эту свою способность, единственно безопасную для окружающих. Он даже хотел собственноручно принимать Парад Победы, но после нескольких попыток взобраться на старую смирную кобылу буркнул: «Возраст!» — и передал почетное право маршалу Жукову, еще более укрепившись в зависти-ненависти к нему.
Но мы ушли в сторону. Мотоциклетный завод, носивший имя, разумеется, Сталина, был городом в городе, там работало до ста тысяч рабочих; одно из дочерних предприятий производило велосипеды, другое — танкетки, любимый Сталиным вид боевой техники. Быстрые, подвижные, верткие, они тоже напоминали коня и казались вождю куда привлекательнее огромных, неповоротливых танков. В военном отношении Сталин исповедовал концепции 1-й Конной, с которой породнился в незабвенные царицынские дни, уничтожив половину ее командного состава. В Отечественную войну Сталин разочаровался и в стратегическом гении создателя 1-й Конной маршала Буденного, оказавшегося всадником без головы, и в любимых танкетках — немецкие снаряды пробивали их, словно они сделаны из картона.
Строитель и первый директор завода, Звягинцев прошел курс обучения на знаменитом заводе «Харлей», за что его прозвали русским Харлеем. Если на «Харлее» он дослужился до мастера цеха, то в родной стране шагнул куда дальше: из мотоциклетных королей прыгнул в наркомы всей подвижной техники. В его ведении оказались мотоциклы, автомобили, велосипеды, все сельхозмашины, самолеты, паровозы, артиллерия и танки. То был пик его карьеры, а потом он страшно погорел.
Сталин приказал создать в кратчайший срок мини-мотоциклетку (прообраз мотороллера), и завод с энтузиазмом взялся за освоение нового производства. Вскоре нарком Звягинцев дал интервью в «Правде» о рождении советской мини-мотоциклетки, как положено, лучшей в мире. В последнем не было особого преувеличения, ибо модель, по обыкновению, украли у «Харлея», там же приобрели все детали для опытного образца. Явив редкую доверчивость, Сталин назначил прием новой машины на ближайшее воскресенье. То была давняя традиция: обычно он со всем Политбюро стоял на кремлевском крыльце, а мимо дефилировала колонна новеньких машин. Затем он лично опробовал машину. Такой же парад замышлялся и на этот раз. Из секретариата вождя позвонили на завод и передали приказ какому-то маленькому служащему, случайно оказавшемуся в заводоуправлении. Как на грех, по летнему времени все начальство отсутствовало, кто отдыхал на Черном море, кто в деревне, кто на рыбалке. Служащий поступил, как чеховский чиновник, чихнувший в театре на лысину сановнику: он пришел домой, лег и умер, не сказав никому о полученном распоряжении.
В назначенный час Сталин и ближайшие соратники вышли на высокое кремлевское крыльцо. Но напрасно ждали они наплывающий рокот шустрых механических жучков, тихо и пусто было на раскаленной площади. Старик Калинин упал в обморок, Молотов, ненавидевший Звягинцева как любимчика Сталина, довольно громко сказал: «Надул нас этот рекламист». Сталин повернулся и молча покинул крыльцо.
К пущей беде Звягинцева, он и сам находился в отлучке, отдыхал с женой в крымском санатории. За ним послали самолет…
Все руководство завода посадили, Звягинцева сняли с поста наркома и вернули на старое место. Считалось, что он дешево отделался.
Эти события, долго волновавшие москвичей, прошли мимо меня.
Из многих мук той поры, когда он вернулся с фронта, его сильнее всего донимал дом на Зубовском бульваре. Странно, что в этом доме как бы сконцентрировалась вся боль разрыва с Дашей и то странное тупое недоумение, которое давило сильнее боли. Впрочем, законно ли разделять два этих чувства? Можно сказать, что боль была неотделима от недоумения, а можно и наоборот: недоумение пропитано болью. И все же боль порой стихала ненадолго: за рюмкой, с бабой, а тягостное недоумение оставалось всегда с ним, как ноюще-сверлящий зуд в задетой пулей щиколотке. Он уже не хромал, и рубец почти не просматривался, но тянуло, стреляло и ныло с утра до ночи, и даже во сне чувствовалось раздражающее неудобство.
Тягостное недоумение стало таким же фоном этих дней и месяцев его жизни, как и постоянный физический дискомфорт из-за оцарапанной кости. Но телесная докука не занимала мыслей, а недоумение беспрерывно заставляло доискиваться: что случилось и как это могло случиться, чем же тогда было все предшествующее? А случилось самое простое, простое, как дыхание, особенно для военных дней: в его отсутствие жена влюбилась в другого. Казалось бы, исчерпывающе ясный, однозначный ответ исключал всякий повод для недоумения, но оно оставалось, ибо нежданный всплеск неуправляемого чувства никак не отвечал ни его собственному представлению о жене, ни тому впечатлению, которое она производила на окружающих: красивая, сдержанная до чопорности, холодно учтивая, спокойная молодая женщина, всегда с прямой спиной и гордо посаженной головой. Сейчас он судорожно цеплялся за этот внешний рисунок, прекрасно зная про себя, что она вовсе не мороженая рыба, а человек сильных, хотя и тщательно таимых чувств.
Он был ее первым мужчиной, но не первой любовью. Года за два до их знакомства она едва не стала женой человека на двадцать лет ее старше, готового пожертвовать семьей и поставить под удар блистательную карьеру. Он был из причастных власти, а там царили в ту пору строгие правила домостроя. Брак не состоялся, ибо накануне решающего жеста он, умный и дальновидный в своей грубой среде, растерялся в тонком Дашином мире и обнаружил свою волчью суть. Даша в слезах и отчаянии позволила матери выгнать его вон.
А потом был влюбленный поэт, хороший поэт и славный малый, но Даша так его и не полюбила, хотя покорно скользила к замужеству, которого хотела ее семья. В двадцать лет она казалась не только созревшей, но и чуть переспелой, как те вишни, что лопаются от распирающего их сока; полная, величественная, начисто лишенная девичьей легкости и подвижности — юная матрона.
И был Крым, и встреча с ним, ныне брошенным мужем, а тогда восемнадцатилетним мальчиком, только окончившим школу. Понятно, что он влюбился, но удивительно, что Даша, которая была не только на два года старше, а в этом возрасте год идет за пять, но неизмеримо взрослей, испытанней в страстях, уже дважды невеста, влюбилась в недоросля. И так влюбилась, что через год любовно-целомудренных отношений простила ему роман, творившийся на ее глазах, со зрелой, искушенной женщиной, решившей сделать из него мужчину. Девятнадцатилетний парень оставался невинным, хотя страстно-безгрешные игры с Дашей доводили его до исступления. Чтобы вернуть его к себе, Даша подарила ему свое единственное, как она старомодно выразилась, достояние. Вернуть и намертво привязать. Да, он был так схвачен, что, став перед уходом на войну ее мужем — а это действует отрезвляюще на самую пылкую страсть, — даже мысленно не мог представить себя с другой женщиной. И на фронте не перестававшее томить желание вопреки блокадному голоду, цинге, чудовищной бомбежке, а потом и окружению, в которое он угодил под Мясным бором, имело лишь один образ — Даши, ее лица, груди, рук, бедер, лона. Кругом гомозились несытые — при всем несколько бессильном рвении фронтовых мужчин — связистки, медсестры, сандружинницы, штабные машинистки, официантки офицерских столовых, почтарши, а он, как последний дуралей, метался ночью на койке или нарах, или просто на голой земле — в зависимости от того, где заставала его военная ночь, представляя себе в тысячный раз, что они делали с Дашей и что он сделает, когда вернется домой. Не научившись в детстве самоудовлетворяться, он изнывал от этой пытки воображением, перенапрягавшей плоть без надежды на освобождение. Наверное, он был задуман однолюбом, но физически был сотворен на роль самца в стаде. Он был обречен на верность Даше и никогда не думал об этом как о добродетели.
По степени настоящей популярности у советских читателей второй половины ХХ века Юрия Нагибина мало с кем можно сравнить. Были писатели модные, были авторитетные, были полузапрещенные, а Нагибин, 100-летие со дня рождения которого выпало на сегодня, был именно популярен — его книги расхватывали с прилавков, героям старались подражать, слогом упивались…
Теперь о нем почти не упоминают, новое поколение его не знает, а старшее, услышав это имя, часто морщится. Почему? Удивительно, но о Нагибине-человеке до самых последних лет его жизни почти ничего не знали.
Москвич, студентом ушел на фронт, был тяжело контужен (от контузии так и не оправился), стал писателем, сценаристом, много говорил с экранов телевизоров о нравственности, долге, честности. Да, в 1960–1980-е он был чуть ли не совестью народа. причем не навязанной сверху, а выбранной самим народом. Даже не читавшие его книг Нагибина уважали: ведь это он написал сценарий самого, пожалуй, народного фильма — «Председатель». Я застал время, когда старики его смотрели, плакали и шептали: «Так и было, так оно и было…».
Нагибин писал очень много и так же много издавался. Прижизненное собрание сочинений составило 11 томов, посмертное — 12, но оно далеко не полное. Писал он в самых разных жанрах и направлениях. Городская проза, деревенская, военная, историческая, производственная, школьная повесть, охотничьи рассказы, рассказы для детей, современные сказки, очень близкие к фэнтези, даже детективные рассказы есть… И всё — или почти всё — у него получалось блестяще.
Очень талантливый, работоспособный профессионал — недаром критик Валентин Курбатов сравнил его с «ученым и инженером». Такое сочетание в нашей литературе встретишь нечасто: очень многим какого-то из этих качеств недоставало и недостает. Может быть, к счастью.
Своего пика популярность Юрия Нагибина достигла в самом конце 1980-х – начале 1990-х. Но она оказалась другого свойства. Тогда срывались маски, вынимались из шкафов скелеты. Не стал исключением и Нагибин. Он сорвал маску сам и сам вынул скелеты. И сделал это как писатель — в повестях и романах.
Первая повесть «другого» Нагибина «Встань и иди» появилась в журнале «Юность» в 1987 году. Помню свое впечатление: я долго был ошеломлен. Строго говоря, повесть о сталинских репрессиях — теме в то время чуть ли не модной. Но ошеломила меня не тема, а герой — благополучный, устроившийся в той жизни молодой человек, которому ссыльный отец, некогда лучший и главный, стал мешать.
Повесть была написана настолько исповедально, что невозможно было отделить героя от автора. Сам автор настаивал: это я, отца предал именно я, а не вымышленный персонаж. Но ведь автор написал когда-то такие светлые, даже в трагизме светлые, повести и рассказы о том же времени — «Переулки моего детства», «Лето», «Школа», «Чистые пруды». А оказалось, что всё было не совсем так, как у героев тех повестей. Уже после смерти Нагибина его вдова Алла Григорьевна рассказала, что «Встань и иди» была написана в 1950-е и 30 лет пролежала зарытой в саду.
Года через три-четыре после этой повести мне попался сборник Нагибина «Любовь вождей». Я был тогда, как большинство молодых, падким на чтение так называемой клубнички. Но это была не клубничка, а нездоровые фантазии, явно фантазии — о сексуальных извращениях Берии, Брежнева, Сталина, не имеющего половых органов Гитлера. Сначала я не мог поверить, что это написал Нагибин, потом оправдывал его тем, что ему нужны деньги и вот он решился так заработать, что это дань тогдашней моде…
А следом повалились его книги подобного рода, но теперь уже вовсе не фантазии — в них он, Юрий Нагибин, был главным героем. Он это подчеркивал, на этом настаивал. «Тьма в конце туннеля», «Моя золотая теща. Автобиографическая повесть», «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя», «Дневник», сданный в печать за несколько дней до смерти, в июне 1994-го…
Отправляя рукопись повести «Моя золотая теща» издателю Александру Рекемчуку (моему мастеру в Литературном институте), Нагибин писал: «Я вдруг подумал: а что, если ты не прочь прочесть нечто в игривом роде, хотя тоже достаточно мрачное. Русский Генри Миллер, хотя и без малейшего подражания автору «Тропика Рака».
Да, эта повесть о любовных отношениях героя со своей тещей, женой директора крупнейшего в Москве автозавода, не подражание Миллеру, но… В этом «но», наверное, вся трагедия позднего Нагибина: Генри Миллер «Тропиком Рака» начал свой путь в литературе, а Юрий Маркович подобными вещами свой путь закончил. Лет 40 воспитывал читателей быть нравственными, честными, сам же держал в надежно запертом шкафу настоящий ящик Пандоры. Когда стало можно и безопасно, он этот ящик открыл. Люди бросились читать, прочитали, ужаснулись и отбросили эти книги. А вместе с ними и остальное написанное им.
Да, в советское время никто из литераторов не мог опубликовать всё, что писалось. Остались непроходные вещи в архивах Владимира Тендрякова, Федора Абрамова, не доживших до перестройки. Но их посмертная судьба куда завидней судеб тех, кто дожил и написал «всю правду» именно в то время. И дело не в теме, а в эстетике конца 1980-х – начала 1990-х. А эстетика эта была не правды и не созидания, а разрушения. И последние книги Нагибина, его почти сверстников Владимира Солоухина, Виктора Астафьева этому разрушению здорово посодействовали. Лирики, моралисты вдруг сделались обличителями, ниспровергателями ими же созданных идеалов.
Это, конечно, их трагедия. Изломанные судьбы, семейные тайны… Юрий Нагибин, например, уже в зрелом возрасте узнал, что его отец не Марк Яковлевич Левенталь (прототип отца в повести «Встань и иди»), а дворянин Кирилл Александрович то ли Нагибин, то ли Калитин, расстрелянный большевиками в 1920 году как участник крестьянского восстания. Но рассказал об этом только в конце жизни.
Мы, литераторы «новой России», с первых строк можем писать всё что считаем нужным, рубить правду-матку. Впрочем, наверное, поэтому нас так мало читают…
Автор — писатель, лауреат литературной премии «Ясная Поляна»
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора
У меня возникла кощунственная мысль, что лобок ее головат. Это никуда не годилось. Но вместе с тем такое предположение объясняло странное бесстыдство моей тещи. Она почти ничего не показывала нескромному взору, немногим больше, чем нагие греческие скульптуры богинь, – место соединения линий, почти нагой, как у невинной девочки, лобок, остальные тайны скрыты. Эротична и волнующа лишь курчавая шерсть, античная гладкость довлеет эстетическому чувству, но не страсти. Мне не хотелось верить собственным глазам.
Одна моя знакомая охладела к своему любимцу эрдельтерьеру, когда я заметил, что он крептор, то есть лишен замшевого мешочка с яичками. Он был полноценный кобель, но со скрытой мощью. “Неужели из-за этого можно разлюбить собаку?” – удивлялся я, проклиная свою наблюдательность и болтливость. “Наверное, нет, – отвечала знакомая. – Но он для меня был совершенством, а не просто собакой. Мне так хотелось видеть хоть одно безукоризненное существо в этом уродливом мире. Абеляр меня не устраивает”. – “Но он отнюдь не Абеляр. Все при нем, только спрятано”. – “В этом-то и беда. Я больше его не вижу, а вижу лишь то, чего у него нет. Он ущербен, как все прочие”. И она вскоре рассталась с собакой.
….
Через день-другой после моего возвращения из командировки я говорил по телефону в прихожей Звягинцевых, когда из ванны, совершенно нагая, вышла Татьяна Алексеевна, слегка прикрываясь махровым полотенцем. Моим собеседником был ответственный редактор “Труда”, и я не мог бросить трубку, только попросил ее отчаянным жестом и умоляющим взглядом убрать полотенце. Она засмеялась и выполнила просьбу. Золотистое чудо впервые открылось мне в такой немыслимой близости. Наконец-то разрешилось старое недоразумение, ее венерин холм покрывала негустая, но вполне достаточная курчавая раститель-ность. Золотой пушок сгущался в рыжину на бородке, обретая при движении благородный тон старинной бронзы. Моя радость передалась ей, никогда еще не было у нее такого милого, такого доверчивого, такого девичьего лица. И тут полотенце скользнуло вниз, словно занавес опустился невпопад.
– Полотенце! – взмолился я. – Уберите!..
– Вас не понял, – ледяным голосом сказала трубка.
Омельченко заказывал мне к завтрашнему дню отклик на последнее гениальное изречение товарища Сталина, полотенце к этому не имело никакого отношения.
– Почему не отвечаете? О чем думаете? Я думал о лобке Татьяны Алексеевны, радуясь тому, что он так мило приютил золотую рощу.
– Я думаю о вашем поручении, – сказал я без особой теплоты.
Татьяна Алексеевна уже проскользнула в спальню, и момент для углубления радости был упущен из-за двух идиотов: Сталина и Омельченко.
Нагибин известен интересным поворотом жизни – он “до седины” считал себя евреем по национальности. Вел себя соответствующе – страстно обличал любой национализм в форме антисемитизма, выдавая горячие рулады. Но потом выяснилось, что он приемный (в младеченстве) сын, и вовсе не еврей, а русский. “Получилось не хорошо”, и выражаясь термином ДЕГ – “стал плакать и просится назад в евреи”.
Плюс еще здоровые по объему желчные дневники, где, говорят, он “обосрал” практически всех (надо ознакомиться).