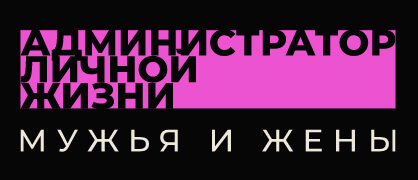Ирина тычинина актриса личная жизнь
Перечитывая строки собственного интервью, я живо слышу голос этой актрисы. Вижу ее глаза, словно проникающие в душу, глубокие, сосредоточенные и готовые к плотному зрительному контакту. Заслуженная артистка России Ирина Тычинина обладает большим человеческим обаянием и желанием общаться с собеседником. На сцене МДТ она всегда разная: сдержанная в «Бесах», растерянная в «Дяде Ване», непоколебимая в «Чевенгуре». Но свойства личности актрисы озаряют все ее роли: светом и внутренней силой, зрелым спокойствием веет от ее персонажей. В 2011 году Ирина была награждена «Золотым Софитом» за исполнение роли Ольги из чеховских «Трех сестер». В рамках фестивальной программы «Мы+Они=Мы» актриса играет в двух эскизах – «Женщине и войне» и «Человеческом факторе». Наша беседа вышла за границы обсуждения ролей и спектаклей, что позволило нарисовать не только сценический, но и человеческий портрет Ирины Тычининой.
— Ирина, что Вас подтолкнуло к выбору профессии?
— Я захотела стать актрисой в пять лет. Вся моя детская жизнь была построена на отборе: это мне пригодится, а это — нет. Друзья рассказывали мне устройство двигателя, учили играть на гитаре, свистеть — делились всем, что знали. С точки зрения дружбы -это жестоко, но с точки зрения профессии — очень пригодилось.
— Как можно поставить себе такую профессиональную цель в детстве?
— Я не знаю, сама потрясаюсь. В пять лет я поняла, что все люди несчастны, причем я это заметила из собственного опыта. Я чувствовала себя очень одиноко и «в семье своей родной казалась девочкой чужой». Позже, в школе, над кроватью у меня висела надпись: «остановите мир, я хочу сойти». Я ощущала себя весьма трагично, понимала, что мир устроен неправильно — с самого начала до самого конца. И мой детский ум в качестве защиты выдвинул такую идею: мне говорили, что у меня необыкновенные глаза, и вдруг я решила, что ими можно дарить счастье. Для этого требовалось ходить с опущенными глазами и иногда вскидывать их на первого встречного – тогда человек становился счастливым, хотя и не знал об этом. Моя детская логика подсказывала, что, если я буду выбирать – это будет нечестно, потому что все достойны счастья. В будущем я прочту это у Достоевского:«человек несчастен, потому что не знает, что он счастлив» Эта идея с дарением счастья по сути смешная, но говорит об определенном качестве ребенка, о его творческом начале. Помимо этого, я хотела петь. Но не только петь, еще и прожить множество жизней. Я знала, чего я точно не хотела: вставать в семь утра, как моя мама, приходить уставшей с полными сумками еды и потом еле-еле доползать до кровати. Для меня театр был полон ощущения бесконечного праздника.
— Сейчас работа в театре тоже ощущается как праздник?
— Пока во мне живет та детская мечта, я не буду приходить на спектакль с мыслями: «ну вот, опять играть!» Я не хочу изменять своей мечте, потому что это будет предательство по отношению к тому ребенку, который все изобрел.
— Получается, что Вам удалось преодолеть свое трагическое мироощущение?
— Оно есть и сейчас, ведь я понимаю, из чего сделан этот суп. Но при наличии детей, а у меня их двое, трагическое восприятие мира несколько стирается.
— У Вас гармонично соединяется материнство и профессиональная деятельность?
— Я никогда не хотела этим жертвовать. Я понимаю, что в театре всякое может случиться – сегодня ты востребован, завтра – нет, а вот семья никуда не денется, всегда будет с тобой. Я получаю удовольствие от осознания, что мой долг на земле, в принципе, выполнен. Состояться как актриса – это не долг. Долг – это вырастить детей полноценными, чтобы они были счастливы, чтобы у них не было трагического мироощущения, чтобы они могли делать многое в своей жизни легко. Когда я в театре – я артистка, когда выхожу из него – мама. У меня все это органично соединяется и взаимонуждается. Работа обогащает меня в общении с детьми и наоборот, мой женский опыт делает мудрее мои роли. Я помню, на репетиции «Трех сестер» Лев Абрамыч попросил меня потянуться к Кулыгину с неопытным поцелуем. Я стала отшучиваться: «Как вы себе это представляете? Имея двоих детей?» Роль Ольги вообще стала для меня уроком. Я думала, сыграв такое количество Чехова, я уже легко найду ту самую полку, где лежит та самая тетрадка с ролью. Я считала, что знаю, как играть чеховских героинь.
— Ваше и додинское представление об Ольге отличаются?
— Думаю, что нет. Додин имеет свой собственный взгляд на какую-либо женскую роль и двигает актрису именно по этому пути, другое дело – насколько актриса идет дальше этого или наоборот. Додин любит поворачивать роль на противоположный смысл. Он часто говорит: «так уже играли, давайте поищем что-нибудь другое». Ольгу уже играли «капитаном тонущего корабля», — это первое, что напрашивается. А если предположить, что все это рухнуло на человека, неспособного этим управлять? Человека хрупкого и отчасти безвольного, с точки зрения качеств, необходимых для капитана. Вообще предназначенного для другого. И вот на наших глазах происходит обрастание, обугливание. Поэтому и болит голова, невозможно тяжелый груз она свалила себе на плечи.
— Ирина, давайте вспомним спектакли по Чехову, ушедшие из репертуара МДТ. Первым был «Вишневый сад», в котором Вы играли Аню, потом – «Пьеса без названия», где Вы репетировали генеральшу, а сыграли Соню.
— «Вишневый сад» дал мне блестящий опыт. Однажды Лев Абрамыч подошел и быстро сказал: «Сейчас нет времени репетировать. Вот вам задание на последний акт. Весь акт ревете». И ушел. Так он обычно не делает. Не знаю, что произошло в тот раз. И что тут началось. Если помните, там очень мало слов, но практически все время надо быть на сцене. Не сразу, но к пятому спектаклю мне это удалось. Весь акт, не переставая, с первых до последних слов я рыдала. Мне выдали огромный носовой платок, чтобы хватило места. Иногда случались фантастические вещи, вот, через минуту мне надо выходить, а по неопытности я еще не знаю, как мне разреветься, что нужно для этого делать, и на первых же словах слезы сами начинали рваться наружу. Вот это в профессии мне нравится больше всего! Или покраснеть при словах Верховенского в «Бесах»: «Краска ваша свидетельствует о том, что я угадал». Я не знаю, как я это делаю, но я краснею. На «Вишневом саде» я познакомилась с Евгением Алексеевичем Лебедевым, который играл роль Фирса в нашем спектакле. Мы много общались и дружили. Вот бывают артисты от природы, а бывают артисты от мечты, от желания быть артистом — любители, в хорошем смысле этого слова. Это я. Он был артист от природы. Он всю жизнь превращал в действо, в театр. Для него не существовало разницы между жизнью и сценой. Этого шага на сцену не существовало. Я долго думала над этим. Для меня его тоже нет. Только в другую сторону. Я не играю ни на сцене, ни в жизни. Вот такой парадокс.Что касается « Пьесы без названия», то Додин мне сразу сказал, что Соню я сыграю с первого раза. А о роли генеральши я мечтаю до сих пор – у меня была бы совершенно другая актерская судьба, я в этом уверена. Я бы так не боялась главных ролей, потому что до сих пор их боюсь. Осознание того, что я не главная – оно в крови, я распределяюсь с партнерами и не тащу одеяло на себя.
— В спектакле «Три сестры» несколько другая ситуация: здесь от Вас очень многое зависит…
— Да, я ощущаю, что могу пододвинуть ритм сцены, незаметно повлиять на действие. Иногда от этой ответственности устаешь – потому что помимо своей роли занимаешься еще и всем спектаклем – но это и есть работа в команде. У каждого актера есть свои внутренние часы, определяющие, сколько места он может занять в спектакле. Есть общая история, которую ты не можешь остановить, сказав: «вот здесь давайте-ка я поиграю».
— В одном из интервью Вы рассказывали, что образ Маши в «Чайке» оказался Вам внутренне близок.
— Машу я сыграла с первой репетиции: мне казалось, что роль ведет меня к тому результату, который я видела изначально. В этой роли я могла делать все, что угодно, ощущая внутреннюю свободу. В «Чайке» каждая реплика касалась меня, чтобы кто ни говорил — каждая фраза касалась моей логики, моих внутренних переживаний, моего внутреннего текста. Это было удивительное ощущение, равносильное чуду, как будто чья-то невидимая рука ведет меня по сцене. Я до сих пор считаю, что эта роль открылась мне полностью.
— В спектакле «Дядя Ваня» Вы играете Елену Андреевну в качестве второй исполнительницы, в очередь с Ксенией Раппопорт. Вам не тяжело дается эта ситуации?
— Конечно, спектакль немного в пустоту, потому что я не первая исполнительница. Меня радует, что Додин решился иметь второй состав, который бы не испортил предыдущий, ведь спектакль был создан на определенных людей. Замена любого из артистов в этом спектакле чревата опасностью, что он может не случиться. Прекрасно, что мне удалось не помешать первому составу, и в тоже время родить другую роль. В России я редко играю в «Дяде Ване», потому что приоритет Ксении. Мое дорывание до этой роли совпадает с дорыванием Елены Андреевны до Астрова.
— Чем Вам особенно дорога эта роль?
— Роль в «Дяде Ване» — блестящая. Я могла бы о ней только мечтать, если бы не подарок Ксении. Когда я ее играю, то испытываю бурю чувств. Я очень люблю этот спектакль без себя, могу смотреть его тысячу раз, но еще я очень люблю его играть. Эта роль сравнима по ощущению с огромным потоком, ты ложишься в него, и он несет тебя на своих волнах. И поскольку рядом такие блестящие партнеры, как Петр Семак, Сергей Курышев, Лена Калинина, Игорь Иванов, то эта чувственная река вынесет тебя туда, куда надо.
— Есть ли разница между героями Чехова и Достоевского?
— Конечно. Во-первых, у каждого автора своя музыка речи. Ее слышно из синтаксиса, длины фразы и дыхания, которое необходимо, чтобы сказать эту мысль. Если читать любого автора вслух, то через определенное время у тебя появляются интонации того человека, который это написал. Я так читала «Тихий Дон» — у меня возникала музыка именно этого человека и этого народа. Герои Достоевского говорят совершенно иначе, чем чеховские. Из Достоевского я сыграла только Дашу в «Бесах», поэтому могу судить лишь по ней. У него больше червивости, мрака, самоуничтожения человека и уничтожение всех вокруг.
— Чеховские герои более безвольные?
— Да, они самоуничтожением занимаются, но не волево. Их уничтожают обстоятельства, а у Достоевского все-таки они сами это делают. И запахи другие: Достоевский – это запахи муската, миндаля. А Чехов – это «вишневый сад», запахи лекарств, карболки, пряности.
— Даша из «Бесов» — Ваша первая роль в МДТ. Какие возникали трудности в процессе репетиций?
— Я еще была студенткой, когда меня позвали в спектакль. Конечно, я совершенно не знала, из какого теста сделана Даша, во мне не было ее ни грамма. Даша была одной из непонятных для меня существ, например, я не понимала, как можно говорить неправду. Я как человек, на тот момент, этого делать не умела.
— Что испытывает Ваша героиня к Ставрогину?
— У Даши очень эгоистичное чувство к Ставрогину, альтруизм пересекается с эгоизмом. «Только я могу его спасти», – считает героиня. Она выбрала Ставрогина как самое мерзкое существо на земле и как свой крест. Но испытывает не только ненависть, но и любовь. Она вампирша по энергетике и могила, ничего никому не расскажет. Она единственная, кто видит в нем тварь, а не человека. С ее точки зрения, Ставрогин — мертвый человек, ходячий труп, и чем дальше он будет среди людей, тем всем хуже. «Он может быть только со мной, которая его так понимает и будет терпеть все его выходки», — думает Даша. Когда я читаю письмо, в котором узнаю о его самоубийстве, меня все время мучит желание состариться на глазах, хочется обуглиться от гнева, от ненависти — ведь он сбежал. Когда я все это открыла, это было для меня потрясением, потому что все человеческое во мне обратно тому, что я сейчас говорю. Я люблю людей, а когда любишь до ненависти и ненавидишь до любви – это уже Достоевский.
— Ирина, Вы участвуете в двух эскизах фестиваля «Мы+Они=Мы»: «Женщине и войне» и «Человеческом факторе». Как Вы считаете, удалось ли воплотить в двух этих работах, поставленные перед началом фестивальной программы задачи?
— Лиза, ну какие задачи? Задачами занимаются большие люди, которые фестиваль придумывают и пьесы находят. Мне дают материал, я его перевариваю, осмысливаю, он обрастает плотью и кровью, нервами и слезами, юмором. И я отдаю его зрителю. В случае с работой по воспоминаниям Алэн Польц «Женщина и война» весь этот процесс осмысления происходил весьма непросто и даже болезненно. Потому что, прежде чем сыграть весь этот ужас, мне нужно было найти свое собственное отношение к каждой фразе, к каждому слову, к каждому факту, написанному в этих мемуарах. Иногда вступая в конфликт со своими представлениями, навязанными идеологией и воспитанием. Нужно было найти свое собственное покаяние и свою личную вину за все произошедшее с этими молодыми, старыми, русскими и не очень, мужчинами и женщинами и собаками. Все больше погружаясь в эту работу, я поняла, что по-другому ее не осилить. Представляю, как трудно бывает зрителю установить эти весы, на которых с одной стороны — Великая победа, смерть родных, «все для фронта», фильмы и салюты на 9 мая, ветераны в орденах, а с другой стороны — все то, о чем мы в этом спектакле рассказываем, и что бывает на любой войне, только мы почему-то не хотим этого признавать и прячем, и прячемся. Зато других, чужих людей и нации мы уже не стесняемся обсуждать и обвинять. Это и есть смысл и задачи фестиваля. Что нет чужих и своих, что нет чьей-то чужой вины или боли, чужой или своей Истории, какой-то женщины или мужчины. А есть я. И прежде всего я должен это знать и с этим жить. Вот это меня и поразило в работе «Человеческий фактор». Материал построен таким образом, что в течение спектакля мне как будто вводят вакцину, и я становлюсь как бы инфицированной. Инфекция — боль, стыд, правда, знание. И я уже не могу жить как раньше.
Беседовала Елизавета Ронгинская
Так получилось, что автор этих строк “заболел” питерским Малым драматическим театром довольно поздно. Первым спектаклем, с которого началось освоение творчества Льва Додина и его актеров, стала чеховская «Чайка». Тогда, на Московской театральной олимпиаде, я впервые увидел на сцене и героиню сегодняшней публикации в роли Маши. Это была удивительная Маша – умная, тонкая, трепетная и целомудренная. Только огромные влажные глаза выдавали её боль и за любимого, и за не сложившуюся жизнь родителей, и за «горе луковое» – мужа-учителя, да и за свою истерзанную судьбу. Сама Ирина Тычинина была чем-то похожа на свою героиню: она казалась такой же тихой, мудрой и немного печальной. И напрочь лишенной какого-либо налёта звёздности. Мы тогда после спектакля в фойе доронинского МХАТа долго беседовали о «Чайке», о Маше, о жизни, о любви, о ее учителе –Льве Додине. Она говорила: “Чайка – это спектакль-размышление о том, что есть мы, что есть жизнь, что есть искусство, что в этом искусстве можем значить мы и куда приведёт нас Судьба. Это попытка разобраться в данную минуту, на этой сцене, для чего мы пришли в этот мир… Мне кажется, что тема Души – это главное в спектакле, его лейтмотив. Здесь душа «осязаема», это – какой-то объём внутри грудной клетки, готовый всё принять, но и с чем-то не соглашаться… В тех «ста пудах любви», которыми насыщен спектакль, один из «пудов» — Машин. И хотя в ней иногда появляется желание избавиться от этого наваждения, она счастлива возможностью любить, даже безнадежно. Маша настолько любит Константина, что хочет соединить его с любимой. Это оказывается невозможным, и тогда у Маши возникает мысль, что ему лучше уйти из жизни. И это лучшее, что он может сделать для себя…»
Потом я увидел Ирину Тычинину в фильме Александра Сокурова «Русский ковчег». Она сыграла преподобномученицу Елизавету Федоровну, сестру императрицы. В глазах этой женщины светились и великая вера, и радость несения своего креста, и восхищение чудными племянницами – великими княжнами, и предчувствие той трагедии, которая случилась с ними в 19-ом году. Это был крошечный эпизод, который еще раз подтвердил истину о том, что маленьких ролей нет…
После этого у автора этих строк сложился, казалось, достаточно цельный образ замечательной молодой актрисы, удел которой – роли тонких, трепетных, высокодуховных натур. Но грянули недавние июньские гастроли Малого драматического, и я, увидев Ирину в привезенных в Москву спектаклях, не поверил своим глазам. То, что она играла, было абсолютно не похоже на мои представления о ее теме и амплуа. Видя ее несчастных и одновременно страшных и даже аномальных персонажей в «Клаустрофобии», роковую Софи в «Пьесе без названия», таинственную Дашу в «Бесах», оставалось изумляться: откуда, из каких тайников души черпает актриса эту сокрушительную энергию, мощную волю и бешеную страсть. «Добавкой» к радостному удивлению стало ее абсолютно профессиональное музицирование. Так что загадок перед второй беседой было – хоть отбавляй. Но вначале я все же не мог не вспомнить свою любимую чеховскую Машу.
– Ирина, «видели» ли вы сами себя в роли Маши после ролей в «Клаустрофобии»?
– Нет, в Маше я себя не сразу увидела. Это произошло после нескольких проб. Я очень долго сомневалась, потому что она мне представлялась другой. А потом я поняла, что Льву Абрамовичу нужна именно такая Маша.
– А что за человек ваша Софи в «Пьесе без названия»?
– Она – женщина, доведенная до какого-то пограничного состояния и влюбленная до безумия, вырвавшаяся, возлагающая надежды на этого человека, который в определенный момент губит ее. Она совершает убийство, пребывая в отчаянии, в безумии.
– Маша и Софи – две абсолютно разные женщины…
– Конечно разные. Они – как две стороны одной медали.
– К какой стороне медали склоняется актриса Ирина Тычинина?
– Я их люблю каждую по-своему. Но, когда мне недавно задали этот вопрос, я ответила – к Маше. Но здесь дело даже не в том, к какой стороне медали я склоняюсь. Здесь важно, какое удовольствие я получаю, играя ту или другую. Когда я играю Машу, это просто космос. И пьеса более совершенная, и мне там все очень удобно. А «Пьеса без названия» с точки зрения драматургии – не вполне совершенна, поскольку она ранняя. Здесь до сих пор много неясностей и пространства для разных вариантов. А в «Чайке» такого нет. Там все так цепляется друг за друга, что никакого другого шага, кроме того, который я совершаю, быть не может. «Чайка» абсолютно совершенна!
– Вам никогда не было боязно оказаться перед зрителем в таком непривлекательном виде, как в «Клаустрофобии»? Не волновало то, что ваши героини будут выглядеть несколько отталкивающе?
– Это меня практически никогда не волнует. Если нужно, чтобы она вызывала отталкивающую реакцию, я этого добьюсь. Хотя… я не совсем понимаю, о чем вы говорите.
– Я говорю о том, что ваши учительница, жена прапорщика, и другие персонажи, – аномальны, вызывают даже не отторжение, а шок.
– Я так не считаю. Чем аномальна учительница, у которой не удалась личная жизнь, а она вынуждена этим тупицам объяснять какую-то химию?! Если вас коробит то, что она демонстрирует свои “прелести”, то это же происходит бессознательно. Она – не нимфоманка какая-то, просто так проявляется ее «зачумленность», погруженность в какой-то свой особый мир. В каких-то статьях ее называли садонимфоманкой, но это всегда для меня было странно. Потому что я играю, абсолютно несчастную женщину… Я очень люблю этот спектакль, потому что он очень разноплановый, у меня там четыре роли.
– Говорят, что он рождался совместными усилиями участников?
– Да, в «Клаустрофобии» многое придумано нами. Например, текст учительницы я сочинила сама. И этюд придуман, немного, мной. Режиссер предложил мне тему, и я за нее ухватилась, стала ее развивать. В процессе работы над этюдом по произведению Л. Улицкой “Народ Избранный” произошла удивительная история. На этот текст нужно было найти музыку. Режиссер, который делал этот отрывок, принес музыкальные произведения. И я вдруг, слушая “концерт для фортепиано с виолончелью” Г.Уствольской, почувствовала фантастическое совпадение: та длинная нота, на которой я произношу монолог, была в этой музыке. И не будь ее в этой музыке, не было бы этой сцены.
– Приходилось ли вам категорически не соглашаться с Додиным, когда он вам предлагал какие-то роли?
– Я не считаю себя вправе не доверять Льву Абрамовичу. Все, что он говорит, гораздо сильнее того, что знаю я. И гораздо глубже. Он в одной фразе может высказать то, что я могу рассказывать “километрами”. Бывают, конечно, в работе мелкие нюансы, но они со временем стираются, и я уступаю Льву Абрамовичу полностью.
– Вы были согласны даже с такой необычной ситуацией, когда вам было предложено появляться на сцене обнаженной?
– Приходилось преодолевать какие-то комплексы. Когда, например, разговор заходил о раздевании в «Пьесе без названия», то это поначалу для меня было довольно болезненно, дело даже доходило до истерик. Потом, когда привыкла, стало важнее что-то другое, более существенное для спектакля.
А со стороны близких людей не чувствовали ли вы… ну, скажем, удивления по этому поводу. Не приходилось объяснять, преодолевать непонимание?
Никогда. Это ведь моя профессия, они понимают, что так надо.
– А если Лев Абрамович попросит вас сделать в спектакле, то, чего вы не умеете, вы будете стремиться выполнить это?
– Конечно! Но я не знаю такого, чего я не умею.
– Ну, например, на турнике вращаться?
– Было у меня и такое в спектакле.
– Не было ли почти за 20 лет общения с Додиным таких мыслей: «Ну, сколько можно, ты же не неисчерпаемый источник»?
– Он – неисчерпаемый источник.
– Неужели никогда не было бунта «дочери по отношению к отцу»?
– Нет, такого не было. Но.…Иногда мне иногда кажется, что он меня… примитивизирует. Мне бы хотелось более глубокого общения. Не то, что на равных, но, мне кажется, что я могу понять все. А он бывает излишне мягок. Как с ребенком: подбирает более простые слова, более доходчивые. Мне иногда это кажется обидным. Но я готова продолжать черпать из этого источника, без всякого сомнения.
– Правда ли, что на его репетициях позволяется пробовать самые разные роли?
– Да. Так происходит сейчас на репетициях «Короля Лира»: все пробуют всё.
– А бывало ли так, что вы пробовали какую-то роль, вам она нравилась, но, тем не менее, режиссер вам давал какую-то другую роль?
– Да, конечно. Когда мне что-то нравится, совсем не обязательно, что я буду это играть.
– Раз уж вы сами вспомнили о «Лире», не могу не задать вопрос о вашей будущей Гонерилье. Как вы собираетесь справляться с ее злобой и коварством?
– Лев Абрамович считает (и я с ним согласна), что она нисколько не злобная. Там нет злобных женщин, это любящие дочери. У меня нет непонимания решения Льва Абрамовича, я знала, что он обязательно повернет эти роли в другом направлении. Если с самого начала они – злые, противные и плохие дочери, тогда о чем играть?
– То есть, просто обстоятельства жизни их приводят к такому решению?
– Обстоятельства, ситуативность мгновенная: секунду назад еще все было нормально, а уже через секунду все рушится. Так в семьях бывает, когда слово за слово и уже скандал разрастается до такой степени, что уже надо разъезжаться по разным городам. Это вполне узнаваемые вещи, и у меня в жизни такое бывало. Было, что буквально за полчаса дело дошло до грандиозного разрыва. Причем не на уровне бытового скандала, а на уровне взаимопонимания…
– Вернемся, однако, к театру. Вам никогда не хотелось попробовать себя где-то на стороне, вне стен МДТ?
– Когда-то поначалу мне хотелось узнать «другие языки». Я ведь знаю только один, и мне хотелось пообщаться с другими режиссерами. Но, чем дольше живу, тем меньше мне этого хочется. Но меня и не зовут, поэтому и проблема отпадает.
– Недавно в «Утиной охоте» вы работали с другим режиссером. Какова судьба этого спектакля?
– Судьба этого спектакля меня пока не очень устраивает. Очень жалко и очень больно об этом говорить, потому что мог получиться очень хороший спектакль.
– Может Вампилов сейчас уже не ко двору?
– Нет. У меня в течение репетиций очень много раз менялось о нем мнение. И в итоге я пришла к абсолютно твердому убеждению, что все, что он написал – гениально. Думаю, что эта пьеса еще не разгадана. У нее великолепное будущее. И если кто-нибудь найдется, кто ее раскусит, то это будет победа. Она загадочна, но не до такой степени, что ее невозможно разгадать.
– Не могу не спросить о загадочном режиссере – Александре Сокурове. Как вам работалось в «Русском ковчеге»?
-Мне было очень интересно. Во-первых, сама возможность общения с Александром Николаевичем многого стоила. Мы каждый понедельник репетировали в Эрмитаже. Но я иногда оставалась после своих репетиций просто посмотреть. Я смотрела, как он делает другие сцены, как он репетирует. Конечно, лично со мной работы было маловато. Самое интересное, что в итоге все оказалось совсем не так, как мы репетировали. Мне потом было очень любопытно посмотреть, как все получилось. Я очень рада, что попала в эту работу. Мне бы еще с Александром Николаевичем пообщаться… Он потом мне даже снился.
– Вы уже достигли определенных «высот» в театре, теперь вот снялись у самого Сокурова. Но почему нет продолжения? Вы что, не можете сами себя предложить, как сейчас говорят, «пропиарить»?
– Мне кажется, что это не очень достойно – саму себя предлагать. Может, я ошибаюсь, но, мне кажется, все, что я делаю, говорит само за себя. Если кому-то это нужно, я готова дать еще больше. А ходить и говорить: вот я хорошая актриса, возьмите меня сниматься или сыграть – это не по мне.
– Словом, вы остались где-то в 19-м веке, а не в нашем, клиповом.
– Я не знаю. Вам виднее. Мне говорили, что в меня бы влюбился Пушкин, если бы я жила в то время. (Смех). Но мне и здесь хорошо.
– А вы влюбились бы в Пушкина?
-Откуда ж я знаю? Посмотрела и решила бы…
– Пушкин любил и Питер, и Москву. А вот ваши актеры, говорят, не очень жалуют нас, москвичей. Говорят, что приходится преодолевать какой-то барьер понимания. Есть ли разница между питерской и московской публикой?
– В этот раз я не заметила разницы. Да, москвичи воспринимали нас сначала настороженно, но в течение наших гастролей их настроение менялось. Они становились более благосклонными, более радостными. Многие выходили из театра в “ошеломляющем восторге”. Я слышала, что некоторые собираются приехать в Петербург, даже спрашивали адрес театра.
– Вы на своей родной сцене ведете себя абсолютно так же или все-таки свободнее?
– Мне абсолютно все равно, на какой сцене играть. Мне важнее, что я играю и о чем.
– А перед иностранной публикой – то же самое?
-Повторяю, мне все равно. Ведь событие – это не приезд в Италию, а приезд, скажем, в Войницевку.
– Хочу подробнее расспросить о других ваших талантах – музыкальных. Вы меня поразили великолепной игрой на фортепьяно, ну, когда заиграли на трубе, я чуть не захлебнулся от восторга. Вы – профессиональный музыкант?
– Я в Свердловске закончила специализированную 8-летнюю музыкальную школу по классу фортепиано. Правда, не так успешно, как хотелось бы, но, видимо, для моей театральной карьеры это абсолютно достаточно.
– Музыка помогает вам как актрисе?
– Когда весь наш курс был обязан обучаться на духовых инструментах, то мне было легче. Я – музыкально подкованный человек, знаю нотную грамоту. А людям, которые не знали что такое “до-диез”, и “ми-бимоль”, приходилось начинать все с самого начала. И процесс был гораздо более продолжительным. Но есть уникальный пример: наш актер Владимир Селезнев. Он тогда впервые в жизни взял саксофон, а теперь в нашем спектакле играет совершенно гениально. Но он учился ежедневно, помимо уроков. Вообще он все, к чему прикасается, доводит до совершенства. Это уже черта характера. А мне было тяжело осознавать, что моя игра – далеко не совершенна. Именно поэтому мне было страшно прикасаться к пианино. Тем более что я окончила музыкальную школу в 1982 году, а «Пьеса без названия» вышла в 1997-м.
– Теперь, возобновив свои музыкальные занятия в театре, часто ли вы играете сами для себя?
– У меня есть дома пианино очень хорошее, «немец», начало прошлого века. Я его завела только потому, что испытываю иногда потребность сесть за него. Когда у меня его не было, я мучалась, не находила себе места, потому что мне нужно, чтобы пианино хотя бы стояло. И если возникнет желание, то я могла бы за него сесть. Я, конечно, в спектакле играю джазовые вещи, но – абсолютно с нот, без импровизации. Это только кажется, что все очень легко.
– Ваш любимый сын не перенял маминых музыкальных талантов? Куда его влечет неведомая сила?
– Его влечет джаз и саксофон. Он учится в музыкальной школе по классу кларнета. Я сначала подумала, что музыкальное образование необходимо любому ребенку, а там дальше пускай смотрит, нужно ли оно ему в будущей профессии. Для меня вопрос с его музыкальными занятиями был абсолютно решенным. А уж потом, со временем вдруг он проявил активное желание этим заниматься, и все мечты его связаны только с музыкой. Не знаю, насколько это действительно серьезно и надолго, но, во всяком случае, пока мы получаем удовольствие.
– А на спектакли мамы он приходит?
– Некоторые ему пока нельзя смотреть, хотя впрочем, я с ним нахожусь в таких отношениях, что у нас нет запретных тем в разговорах по душам. Мы знаем все уже, хотя закончили только второй класс.
– А еще чем вы с ним занимаетесь?
– Читаем книжки. Мы с ним уже много всего перечитали. «Дети капитана Гранта», например, когда читали, то заодно по глобусу изучали географию. Я очень люблю с ним заниматься. Мне интересно что-то для него придумывать, увлекать какими-то вещами, которые можно открыть помимо школьной программы. Он очень любит со мной общаться.
– То есть, у вас хватает времени не только на себя?
– На себя? Мне самой чего надо-то?…
– Ну, отдохнуть, подумать о жизни…
– Я отдыхаю, когда общаюсь с ним. А на себя у меня есть время, когда он уже уснул. Тут я принадлежу сама себе, это мой час.
– Вы просто лежите, думаете, или смотрите телевизор или читаете?
– Я – в книгах и компьютере. Это для души.
– Вы сами произнесли название своего родного города Свердловска. Поэтому я хочу поговорить о временах 20-летней давности. Как складывалась ваша жизнь до театрального периода, как вы пришли к театру?
– Это была мечта детства. Я с 5 лет мечтала быть актрисой. Моя жизнь была подчинена этой мечте. Все, чем я занималась, было с дальним умыслом: пригодится мне это или нет. У меня в детстве даже была такая фраза «Я не знаю, что со мной может произойти в жизни, но я должна быть готова ко всему». А так, как я знала, что я хочу быть актрисой, то я брала все, что может пригодиться. Рада была, что именно музыкальное образование может мне пригодиться. К сожалению, у меня не было возможности заниматься в театральных студиях, потому что я училась в специализированной школе-интернате, и меня никуда не отпускали. Я даже помню одно смешное обстоятельство. Где-то в 9-ом классе у меня висел план недели, можете себе представить, что я придумала! Понедельник: грустная, и задумчивая. Вторник: непредсказуемая и взбалмошная. Среда: таинственная, загадочная. И вот я приходила в школу, с утра смотрела на это расписание, и в течение всего дня играла эту роль. У меня был выходной – воскресенье, когда я становилась сама собой.
– А сейчас вы не вешаете себе такие таблички на стену?
– Нет. Теперь у меня другой закон. Когда выхожу из театра, я – просто женщина, просто человек.
– То есть, в жизни не играете?
– Никогда.
– В ваших персонажах – просто вулкан страстей, хотя они и скрыты где-то внутри. А вам самой свойственно открытое выражение страсти в жизни или у вас они бурлят тоже внутри?
– Наверное, на всех них я немножко похожа. И мне нравится не открытая страсть, хотя я и совершаю безумные поступки. Но они происходят именно внутри меня. Я могу что-то чувствовать, а потом совершаю безумный поступок, который является результатом страсти.
– Эта страсть не мешает взаимоотношениям с коллегами?
– Я стараюсь не доводить до критической степени ситуации и отношения. Бывает какое-то изначальное непонимание, с самого первого дня общения. Нас с человеком абсолютно ничего не связывало с точки зрения интереса друг к другу, а со временем он вдруг появлялся. Люди открывали меня, а я открывала их, и мы становились самыми лучшими друзьями.
– Вы абсолютно счастливы в творческой и личной жизни?
– Абсолютно! Я вдруг в какой-то момент поняла, что у меня нет основания, считать себя не состоявшейся. Поняла, что все, что со мной происходит, – хорошо. Все так, как должно быть, и я должна этому радоваться. А чего у меня плохого? У меня есть ребенок, у меня есть квартира собственная. У меня есть театр, любимая работа, любимый мужчина. Чего мне еще надо?
– Вы уверены в себе?
– Нет-нет! Неуверенность – это хорошая вещь. Она не дает возможности благополучно усесться в свое счастье. Иногда я все-таки свое счастье подвергала сомнению. Я по знаку Зодиака – «Весы». Поэтому постоянно взвешиваю все на своих весах.
– Какие шаги делаете дальше?
– Мне нужно найти гармонию. Даже в самой тяжелой ситуации, пока я не найду в ней гармонию, я не смогу спокойно жить.
– И долго ищете?
Бывает, что долго. Но ее нужно найти, во что бы то ни стало. Иначе я не смогу существовать. Мне необходимо найти равновесие между “мне плохо” и “терпимо” и встать крепко.
Вопросы задавал Павел Подкладов